У сопки Стерегущей Рыси [Майя Диасовна Валеева] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

Майя Валеева У сопки Стерегущей Рыси
-



ПОВЕСТЬ О ЧЁРНОЙ СОБАКЕ
 Моя восьмилетняя немецкая овчарка Недда спит на своей подстилке в коридоре, положив на лапы большую голову. Она уже начала стареть: в последние годы отяжелела и обленилась, у неё стираются клыки и на морде появилась лёгкая седина. Но я хочу рассказать не о ней, а о другой собаке, с которой всё и началось…
Был тёплый сентябрьский день. Ветер с неистовством носился между каменными громадами нового микрорайона, в глаза забивался песок, хрустел на зубах. Ветер разворошил мусорные ящики, возле которых, среди разбросанной по земле бумаги, копошились шумные и жадные голуби. Крупный и худой щенок с непомерно большими лапами, слезящимися глазами, с чёрной короткой шерстью сидел возле одного из ящиков. То ли больной, то ли голодный, щенок был воплощением печали. Я остановилась возле него, и во мне всё замерло от мучительного беспокойства.
Собака… Собака бездомная, но чем-то похожая на дога: вон и хвост длинный, тонкий, как хлыст.
Наверное, с того момента, как я начала помнить себя, я мечтала о моей собаке. И вот дожила до седьмого класса, а её всё нет.
Я погладила щенка. Щенок робко, печально смотрел на меня серо-карими глазами. «Да ты ещё и девчонка!» — вздохнула я, увидев гладкое, голое пузо щенка. Щенок вильнул тяжёлым хвостом. От него сильно пахло помойкой. «Взять?!» Я представила лицо бабушки, вечер, когда придут с работы мама и папа.
«Дог ты или дворняжка, мне всё равно!» Я встала и позвала щенка за собой. Недоверчиво, будто нехотя, щенок поплёлся за мной, неловко переставляя крупные длинные лапы. Почти через каждый шаг я гладила щенка по костлявой спине, по большой голове с болтающимися ушами и упрашивала его идти за мной. Так мы дошли до дома. Я с трудом втащила собаку на третий этаж и в нерешительности остановилась перед дверью. Теперь предстояло самое трудное: пронести щенка в квартиру незаметно от бабушки, а если она всё же заподозрит неладное, выдержать её осаду до прихода родителей.
Открыв дверь, со щенком под мышкой я прошмыгнула в свою комнату. Шаркающие, быстрые шаги бабушки испугали меня, и я попыталась затолкать щенка под письменный стол. Но не тут-то было! Грязная чёрная упрямица упиралась всеми четырьмя лапами, а когда бабушка вошла в комнату, — как нарочно, жалобно завизжала. Так моё преступление было раскрыто.
Вечером в коридоре возле вешалки, где на подстилке лежал худой щенок с печальными глазами, решалась его участь.
— Мы же хотели взять хорошую, породистую собаку из клуба, — расстроенно говорил папа. — И потом, если ты утверждаешь, что это дог, тем хуже для нас! В нашей квартире нам только дога держать. Нельзя было придумать что-нибудь покрупнее?
— Может, она хозяев потеряла? Надо в клуб сообщить, объявление дать… Может, найдутся хозяева. А если нет, то что делать… Пусть уж живёт у нас. Нельзя же сейчас её выбрасывать на улицу, ведь она нам поверила… — Мама вздохнула и погладила собаку по голове.
То ли дог, то ли дворняжка лизнула мамину руку и застучала по полу тяжёлым хвостом.
Сердитая бабушка закрылась в своей комнате. Кошка Шаян, которая считала себя хозяйкой квартиры, тоже была возмущена. Несколько раз она подходила к лежащему щенку, надувшись от презрения и обиды, но уличный щенок даже не замечал её.
— Ладно, — сказал папа и строго посмотрел на меня, — ты собаку притащила, ты за неё теперь отвечаешь, сама её воспитывай и за ней смотри.
Собака осталась у нас.
Мы назвали её Неддой. Развесили на заборах и столбах объявления, сообщили в клуб собаководства, всё ещё надеясь, что найдутся её настоящие хозяева. Вернее, больше всего на это надеялась бабушка, и её, конечно, поддерживала Шаян. Я же думала только об одном: чтобы Недда осталась у нас и была моей собакой.
В чистую, светлую квартиру Недда явно не вписывалась. Ходила неуклюже, задевая всё на пути, оставляла за собой лужи, потихоньку жевала ботинки и туфли. Но больше всего спала и ела. Она была так измучена своей бродячей жизнью, что, наверное, никак не могла насытиться и выспаться. Очень скоро она подружилась с Шаян, — наверное, сразила её своей доверчивой лаской. Теперь наша высокомерная кошка частенько лежала рядом с Неддой, тихо и довольно мурлыча.
Нам часто звонили, расспрашивали о щенке, обещали подумать или сразу отказывались.
Однажды вечером, когда за окном лил дождь, позвонили прямо в дверь.
— А мы по объявлению! — сказала немолодая женщина в жёлтом берете, с ярко накрашенными губами. Рядом с ней стоял мальчик лет восьми. — Посмотри, Саша, ведь это наша Альма, правда? Альма, Альма!
Но Недда, которую звали Альмой, даже не пошевелилась. Подняла голову и непонимающе уставилась на вошедших.
Мальчик подошёл к ней и обнял её за шею:
— Альма, ты нашлась, нашлась! Мама, а это правда Альма?
Женщина тихо сказала нам:
— Можно вас на минутку, — и дотронулась до маминой руки. — Понимаете, это не наша собака, у нас был такой же щенок, он погиб… Но я не хочу травмировать ребёнка. Пусть он думает, что это Альма! Вам же всё равно она не нужна, раз вы объявление дали, а я заплачу…
— Что вы, что вы! — Мама замахала руками и растерянно взглянула на меня.
Я стояла рядом, как оглушённая.
— Мы ведь её и правда хотели отдать и взяли из жалости, ведь так, дочка?
Я молчала и не могла ничего сказать.
— Я очень вас прошу! — умоляюще прошептала женщина. — У нас ей будет очень хорошо!
— Мама, Альма уже хочет домой! — радостно проговорил мальчик.
— Ну ладно… — чуть слышно сказала я. — Пусть она будет Альма.
И Недду увели в красивом ошейнике в вечернюю темноту, в дождь, в осенний ветер.
Ночью я лежала и плакала, уткнувшись в подушку. Всего-то дней шесть прожила у нас Недда, а мне казалось — я потеряла близкое, родное существо, жизнь без которого теперь представлялась мне невозможной…
Прошло несколько дней, полных какого-то ожидания. Казалось, комнаты давили своей пустотой. Шаян часами сидела на табуретке возле входной двери и прислушивалась к звукам в коридоре. Видно, скучала без Недды. Как-то вечером я случайно услышала, как папа сказал маме:
— А может, и зря мы её отдали? Я что-то к ней привык, а теперь сразу пусто в квартире стало.
— Не говори ты об этом, я и так сама не своя хожу. Сегодня чуть не поехала по их адресу за нашей Неддой…
Мне показалось, что мама всхлипнула. Не помню, как я ворвалась в комнату, вся в слезах… Помню, что плакала и твердила об одном — вернуть, вернуть Недду, и как мама тоже заплакала, и мы решили ехать за ней немедленно.
Уже который день, не переставая, лил дождь. Мы с мамой даже не взяли зонтика и, пока добрались до другого конца города, совершенно промокли. Когда мы наконец, стряхивая с себя холодные брызги, остановились перед нужной дверью, у меня всё похолодело внутри от волнения. На звонок нам открыла знакомая уже женщина; она сразу узнала нас, заулыбалась как-то виновато и суетливо:
— Ой, знаете, а мы вам хотели позвонить…
— Мы пришли за собакой, — мрачно сказала я, со страхом оглядывая коридор и не находя в нём Недды.
— А знаете… Мы её наказали. Сейчас, сейчас… Она в ванной. Она, знаете ли, ободрала нам кресло, вот мы её и наказали.
Моя восьмилетняя немецкая овчарка Недда спит на своей подстилке в коридоре, положив на лапы большую голову. Она уже начала стареть: в последние годы отяжелела и обленилась, у неё стираются клыки и на морде появилась лёгкая седина. Но я хочу рассказать не о ней, а о другой собаке, с которой всё и началось…
Был тёплый сентябрьский день. Ветер с неистовством носился между каменными громадами нового микрорайона, в глаза забивался песок, хрустел на зубах. Ветер разворошил мусорные ящики, возле которых, среди разбросанной по земле бумаги, копошились шумные и жадные голуби. Крупный и худой щенок с непомерно большими лапами, слезящимися глазами, с чёрной короткой шерстью сидел возле одного из ящиков. То ли больной, то ли голодный, щенок был воплощением печали. Я остановилась возле него, и во мне всё замерло от мучительного беспокойства.
Собака… Собака бездомная, но чем-то похожая на дога: вон и хвост длинный, тонкий, как хлыст.
Наверное, с того момента, как я начала помнить себя, я мечтала о моей собаке. И вот дожила до седьмого класса, а её всё нет.
Я погладила щенка. Щенок робко, печально смотрел на меня серо-карими глазами. «Да ты ещё и девчонка!» — вздохнула я, увидев гладкое, голое пузо щенка. Щенок вильнул тяжёлым хвостом. От него сильно пахло помойкой. «Взять?!» Я представила лицо бабушки, вечер, когда придут с работы мама и папа.
«Дог ты или дворняжка, мне всё равно!» Я встала и позвала щенка за собой. Недоверчиво, будто нехотя, щенок поплёлся за мной, неловко переставляя крупные длинные лапы. Почти через каждый шаг я гладила щенка по костлявой спине, по большой голове с болтающимися ушами и упрашивала его идти за мной. Так мы дошли до дома. Я с трудом втащила собаку на третий этаж и в нерешительности остановилась перед дверью. Теперь предстояло самое трудное: пронести щенка в квартиру незаметно от бабушки, а если она всё же заподозрит неладное, выдержать её осаду до прихода родителей.
Открыв дверь, со щенком под мышкой я прошмыгнула в свою комнату. Шаркающие, быстрые шаги бабушки испугали меня, и я попыталась затолкать щенка под письменный стол. Но не тут-то было! Грязная чёрная упрямица упиралась всеми четырьмя лапами, а когда бабушка вошла в комнату, — как нарочно, жалобно завизжала. Так моё преступление было раскрыто.
Вечером в коридоре возле вешалки, где на подстилке лежал худой щенок с печальными глазами, решалась его участь.
— Мы же хотели взять хорошую, породистую собаку из клуба, — расстроенно говорил папа. — И потом, если ты утверждаешь, что это дог, тем хуже для нас! В нашей квартире нам только дога держать. Нельзя было придумать что-нибудь покрупнее?
— Может, она хозяев потеряла? Надо в клуб сообщить, объявление дать… Может, найдутся хозяева. А если нет, то что делать… Пусть уж живёт у нас. Нельзя же сейчас её выбрасывать на улицу, ведь она нам поверила… — Мама вздохнула и погладила собаку по голове.
То ли дог, то ли дворняжка лизнула мамину руку и застучала по полу тяжёлым хвостом.
Сердитая бабушка закрылась в своей комнате. Кошка Шаян, которая считала себя хозяйкой квартиры, тоже была возмущена. Несколько раз она подходила к лежащему щенку, надувшись от презрения и обиды, но уличный щенок даже не замечал её.
— Ладно, — сказал папа и строго посмотрел на меня, — ты собаку притащила, ты за неё теперь отвечаешь, сама её воспитывай и за ней смотри.
Собака осталась у нас.
Мы назвали её Неддой. Развесили на заборах и столбах объявления, сообщили в клуб собаководства, всё ещё надеясь, что найдутся её настоящие хозяева. Вернее, больше всего на это надеялась бабушка, и её, конечно, поддерживала Шаян. Я же думала только об одном: чтобы Недда осталась у нас и была моей собакой.
В чистую, светлую квартиру Недда явно не вписывалась. Ходила неуклюже, задевая всё на пути, оставляла за собой лужи, потихоньку жевала ботинки и туфли. Но больше всего спала и ела. Она была так измучена своей бродячей жизнью, что, наверное, никак не могла насытиться и выспаться. Очень скоро она подружилась с Шаян, — наверное, сразила её своей доверчивой лаской. Теперь наша высокомерная кошка частенько лежала рядом с Неддой, тихо и довольно мурлыча.
Нам часто звонили, расспрашивали о щенке, обещали подумать или сразу отказывались.
Однажды вечером, когда за окном лил дождь, позвонили прямо в дверь.
— А мы по объявлению! — сказала немолодая женщина в жёлтом берете, с ярко накрашенными губами. Рядом с ней стоял мальчик лет восьми. — Посмотри, Саша, ведь это наша Альма, правда? Альма, Альма!
Но Недда, которую звали Альмой, даже не пошевелилась. Подняла голову и непонимающе уставилась на вошедших.
Мальчик подошёл к ней и обнял её за шею:
— Альма, ты нашлась, нашлась! Мама, а это правда Альма?
Женщина тихо сказала нам:
— Можно вас на минутку, — и дотронулась до маминой руки. — Понимаете, это не наша собака, у нас был такой же щенок, он погиб… Но я не хочу травмировать ребёнка. Пусть он думает, что это Альма! Вам же всё равно она не нужна, раз вы объявление дали, а я заплачу…
— Что вы, что вы! — Мама замахала руками и растерянно взглянула на меня.
Я стояла рядом, как оглушённая.
— Мы ведь её и правда хотели отдать и взяли из жалости, ведь так, дочка?
Я молчала и не могла ничего сказать.
— Я очень вас прошу! — умоляюще прошептала женщина. — У нас ей будет очень хорошо!
— Мама, Альма уже хочет домой! — радостно проговорил мальчик.
— Ну ладно… — чуть слышно сказала я. — Пусть она будет Альма.
И Недду увели в красивом ошейнике в вечернюю темноту, в дождь, в осенний ветер.
Ночью я лежала и плакала, уткнувшись в подушку. Всего-то дней шесть прожила у нас Недда, а мне казалось — я потеряла близкое, родное существо, жизнь без которого теперь представлялась мне невозможной…
Прошло несколько дней, полных какого-то ожидания. Казалось, комнаты давили своей пустотой. Шаян часами сидела на табуретке возле входной двери и прислушивалась к звукам в коридоре. Видно, скучала без Недды. Как-то вечером я случайно услышала, как папа сказал маме:
— А может, и зря мы её отдали? Я что-то к ней привык, а теперь сразу пусто в квартире стало.
— Не говори ты об этом, я и так сама не своя хожу. Сегодня чуть не поехала по их адресу за нашей Неддой…
Мне показалось, что мама всхлипнула. Не помню, как я ворвалась в комнату, вся в слезах… Помню, что плакала и твердила об одном — вернуть, вернуть Недду, и как мама тоже заплакала, и мы решили ехать за ней немедленно.
Уже который день, не переставая, лил дождь. Мы с мамой даже не взяли зонтика и, пока добрались до другого конца города, совершенно промокли. Когда мы наконец, стряхивая с себя холодные брызги, остановились перед нужной дверью, у меня всё похолодело внутри от волнения. На звонок нам открыла знакомая уже женщина; она сразу узнала нас, заулыбалась как-то виновато и суетливо:
— Ой, знаете, а мы вам хотели позвонить…
— Мы пришли за собакой, — мрачно сказала я, со страхом оглядывая коридор и не находя в нём Недды.
— А знаете… Мы её наказали. Сейчас, сейчас… Она в ванной. Она, знаете ли, ободрала нам кресло, вот мы её и наказали.
 Женщина торопливо зашла в ванную, и через секунду оттуда с шумом вырвалась Недда и бросилась с радостным визгом прямо ко мне. Она неуклюже ласкалась и повизгивала, будто всхлипывала от слёз.
— У нас маленькая квартира, а Альма, нам сказали, будет очень большая, — оправдывалась женщина.
— Не беспокойтесь, мы её забираем обратно, — сказала мама.
— Да… Вы уж извините, что так вот…
А мы уже почти бежали вниз по лестнице с радостно суетящейся между нами Неддой. И когда мы подошли к нашему дому, Недда уверенно подбежала к подъезду, толкнула лапой дверь и, не дожидаясь нас, бросилась прямо к двери нашей квартиры.
Шаян встретила её долгим, восторженным воплем. Шаян и так была очень разговорчивой кошкой: она даже на своё имя всегда откликалась ласковым, кокетливым «мрр-м», а тут уж и вовсе разошлась — затянула радостное «мя-а-а-у-у» и стала тереться головой о Неддину морду. Недда восторженно облизала кошку, обежала всю квартиру и на радостях даже осмелилась подойти к суровой бабушке.
С возвращением Недды наш дом снова ожил. Если в свою недолгую бытность Альмой Недда разодрала кресло, то это были просто мелочи по сравнению с тем, что она вытворяла у нас. Каждый день мы натыкались то на новые изжёванные мамины сапоги, то на башмаки без подошвы, то на разорванную бабушкину калошу. Мы спешно прятали всю обувь, и теперь она то и дело сыпалась из шкафа, выползала из-под кровати или из-за стиральной машины. Но Недда быстро научилась находить кожаную обувь по запаху, и никакие внушения и угрозы не могли остановить её. Пропадали веники и щётки, расчёски и пузырьки с лекарствами, карандаши и тюбики крема. Однажды Недда ухитрилась перегрызть и съесть часть провода от телевизионной антенны. Пришлось вызывать телемастера.
В то время у нас жил грач Кузя, которого я принесла ещё летом. Какой-то шутник подрезал Кузе крылья, и он не мог летать. Недда косилась на клетку с Кузей жадными глазами, но я даже подходить к клетке ей не позволяла. Однажды, когда я чистила клетку и на минутку вышла за водой, Недда тут же бросилась к клетке, толкнула её и с грохотом уронила на пол. Когда я вбежала в комнату, Недда, забыв обо всём на свете, с лаем гонялась за Кузей. У бедного грача так стучало сердечко, что я даже испугалась за него.
Да и мало ли было других проделок, не говоря уже о лужах на полу! И всё же Недда постепенно взрослела, заметно и неумолимо росла, обещая быть и впрямь очень большой собакой. Неддин рост был предметом моей гордости: я то и дело измеряла её в холке и с радостью отмечала прибавляющиеся сантиметры. Недда теряла детскую угловатость и теперь всё больше напоминала собой овчарку, но только очень крупную и с короткой шерстью. Одно за другим встали уши, чёрная, без единого пятнышка шерсть стала блестящей и гладкой, и люди на улице всё чаще говорили: «Какая красивая собака! Что это за порода?»
Какая разница, какой породы была моя Недда?! Может быть, она была смесью овчарки и дога, а может, и кровь большой дворняги перемешалась в ней, кто знает? Главное, что она была доброй, сильной и смелой. Была моей, только моей собакой.
Я записалась в клуб собаководства и начала учить Недду собачьим премудростям. А Недда, казалось, излучала из себя сплошное непослушание и упрямство. Я говорила ей «рядом!», а она хватала своими крепнущими клыками меня за ногу или срывалась с поводка и, дразня меня, бегала вокруг.
Помню, что, когда мы пришли на первое занятие в клуб, множество больших собак совсем не испугало её, как я думала. Она легко вошла в их компанию, так, будто уже давно была с ними знакома. Она вела себя очень дружелюбно, но обидеть себя не позволяла, да и не нашлось на то охотников: все овчарки доходили моей Недде лишь до лопатки. Недда была просто возмущена тем, что я взяла её на поводок и не даю поиграть с собаками, она никак не могла понять, что мне от неё нужно, рвалась, хрипела, лаяла и мешала заниматься всей группе. Мне было ужасно стыдно, руки онемели от напряжения, и, вытирая со лба льющийся пот, я зло шептала: «Тупица! Дубина!»
Но на следующем занятии Недда была спокойнее и послушнее, а позже и вовсе оказалась образцовой ученицей, и я с тайной гордостью считала её самой умной среди всех овчарок, эрдельтерьеров, доберман-пинчеров и колли. А то, что она была самой красивой собакой, признала вся наша группа.
Однажды, в очередное воскресенье, мы тренировали собак на задержание. Наш инструктор Люся привела с собой угрюмого парня в толстой телогрейке: на него и должны были по команде «фас!» бросаться собаки.
Я очень волновалась, потому что не знала, как поведёт себя Недда. Не испугается ли, как некоторые собаки? Ведь она ещё почти щенок. И хотя, пока не дошла наша очередь, Недда злобно и яростно рвалась с поводка вместе с другими собаками, это меня не успокаивало: я-то знала, что на поводке, у ноги хозяина, любая собака чувствует себя смелой…
И вот пришла наша очередь. Парень подбежал к Недде и ударил её по морде тряпкой. Оскалившись, Недда рванулась на него.
— Ого, вот это клыки! А если прокусит? — удивлённо и беспокойно спросил парень.
— Спускай! — кивнула мне Люся и закричала вместе со мной — Фас, Недда, фас!
Но Недде команда и не требовалась. Она бросилась на парня, схватила его за рукав, потом выше, чуть не повалив его своей тяжестью. Я впервые увидела мою добрую Недду такой свирепой. Я услышала, как восхищённо присвистнули мальчишки из моей группы. Вместе с Люсей мы с трудом остановили Недду.
— Для начала неплохо, — скупо сказала она и занялась следующей собакой.
— Молодец, Недда! — Я погладила её, и она благодарно взглянула на меня коричневыми, сразу подобревшими глазами.
Когда занятие кончилось и мы, перед тем как разойтись, пустили собак поиграть между собой, ко мне подошёл парень, на которого натравливали собак.
— Как зовут твою собаку, девочка? — спросил он. — Красавица какая! А как хорошо работает! Где собачку покупали?
Я неопределённо пожала плечами.
— Послушай, девочка, продай мне собаку, а? Сколько попросишь — отдам, а? — вдруг сказал он.
— Да вы что?! — с удивлением выкрикнула я, и его неприметно-обыденное лицо сразу стало мне ненавистно.
— А что, продай! Зачем она тебе? Я дело говорю, — с напором продолжал он.
— Она не продаётся!
— Как хочешь, девочка! Лучше продай, пока за так не увели, — с усмешкой сказал он.
Настроение у меня испортилось, я позвала Недду и пошла домой.
Стояла поздняя осень. Снег ещё не выпал, а земля уже застыла и даже днём не могла оттаять от ночного мороза. Поблёкшие листья уже не были легки и ярки, как в сентябре; они прилипали к подошвам и пахли не живым деревом, а холодной землёй. Довольная жизнью, Недда носилась по безлюдному, полудикому парку, играла в догонялки с воронами и грачами. «От того заморыша, что встретился мне на помойке, не осталось и следа», — думала я.
Недда всё больше взрослела, и дома теперь установился относительный порядок.
Аппетит у Недды был звериный, и на один день ей с трудом хватало шестилитровой кастрюли супа. Недда твёрдо знала часы кормления и, когда подходило время, начинала нетерпеливо вытанцовывать возле двери, то и дело просовывая в кухню свой большой чёрный нос. И вот наконец наступал долгожданный миг! Дрожа от голода и нетерпения, Недда смотрела, как я наполняю похлёбкой её миску, больше похожую на тазик. Если к миске подходила Шаян, Недда начинала возмущённо лаять и всё же не решалась броситься к еде без моей команды. О желанное, любимейшее слово «ешь!». С громким чавканьем она моментально опустошала миску и с надеждой смотрела на кастрюлю вечно голодными глазами. Её ненасытность не имела предела.
Недда отлично знала мамин звонок. На звонки других она реагировала довольно равнодушно, но, услышав мамин, сразу вскакивала с места. Она радовалась так, будто не видела маму целый год!
Любимым её занятием было смотреть, как Шаян прыгает за солнечным зайчиком. Увидев в моих руках зеркальце, Шаян в восторге замирала, а Недда садилась и смотрела на Шаян блестящими от возбуждения глазами. Шаян забывала всё на свете. Она прыгала на стены, скользя, скребла по ним когтями. От каждого её движения Недда вздрагивала всем телом, повизгивала и глотала слюну. Как ей хотелось броситься на Шаян, поиграть с ней! Но что бы осталось от маленькой Шаян, если бы на неё опустились Неддины лапищи? Шаян это прекрасно понимала и при малейшем покушении на неё убегала, задрав пушистый хвост. Знала она и то, что входить в комнаты собаке запрещено. Порой она до тех пор играла перед носом лежащей Недды, что та не выдерживала и вскакивала. С негодующим лаем она бросалась на Шаян, но разве угонишься за кошкой на скользком полу! На пороге комнаты Шаян с победным видом останавливалась и снова начинала дразнить Недду. Дрожа от обиды и гнева, Недда вползала лапами в комнату и громко лаяла. Шаян же с деланным равнодушием и спокойствием скрывалась под кроватью.
Зима принесла нам новые радости. Недалеко от нас были луга, поросшие кустарником и камышами. Теперь они превратились в сплошное белое поле, исхоженное взад и вперёд многочисленными лыжниками. Вид лыжни волновал Недду, и она инстинктивно рвалась вперёд. Она несла меня с такой лёгкостью, силой и быстротой, что я успевала лишь уклоняться от веток, хлеставших по лицу. И если мы догоняли какого-нибудь лыжника, я с трудом удерживала Недду — в азарте она всегда пыталась схватить его за ногу, и я понимала, что видеть несущуюся на тебя с лаем огромную чёрную псину не очень-то приятно. Я старалась уходить с собакой подальше, где было меньше людей.
Во дворе у Недды появилась подружка — некрупная рыжеватая овчарка Герда. Они всегда радостно узнавали друг друга и начинали бешеную возню. Как красивы и грациозны были движения собак! Высунув красные языки, они катались по снегу, взрывая его сильными лапами. Глаза их сияли счастливым, шальным огнём. Недда никогда не убегала от Герды — всегда преследовала её. Наконец, устав, они ложились на снег, часто дыша и кося ещё не остывшими от борьбы глазами.
Недде было хорошо у нас, и нам было хорошо с ней. Иногда мы с ужасом вспоминали, что хотели когда-то избавиться от неё, как от чего-то ненужного и неудобного. Теперь мы и не представляли без неё свою жизнь. А Недда любила нас, и, конечно, всех больше — меня; любила свой дом любила кошку Шаян.
Я училась тогда в седьмом классе, мечтала о профессии зоолога, и Недда занимала всё моё свободное время. Я уже мечтала о лете, когда мы с Неддой будем купаться в Волге и ходить далеко-далеко в лес, — ведь с такой собакой бояться нечего. А сейчас мы готовились к нашему первому в жизни экзамену. Общий курс дрессировки был нами успешно пройден, и на показательном выступлении мы надеялись получить высокие баллы.
Но жизнь распорядилась иначе.
Вечер выдался красивый и тёплый. Щедрый снег валил и валил, покрывал белизной асфальт, дома и деревья и, как густой туман, скрывал в себе очертания улиц, машин и фигуры прохожих. Мы вдоволь наигрались с Неддой и теперь, совершенно промокшие, шли домой.
Не так давно возле дома в который раз уже вырыли глубокую канаву. Наверное, строители задались целью перерыть вдоль и поперёк весь наш двор. Днём Недда обычно легко перемахивала на другую сторону канавы, но сейчас то ли она устала, то ли ей не понравилась глубокая чернота на дне канавы, но она вдруг заупрямилась, попятилась назад и вытащила голову из ошейника. Поняв, что она на свободе, Недда радостно запрыгала по снегу, не обращая внимания на мой строгий голос. Она то отбегала, сразу же пропадая из виду, то подходила ко мне совсем близко, но так, чтобы я не могла поймать её. Я не на шутку рассердилась: «Ах, так? Ну подожди!» — и быстро, чтобы она не заметила, побежала к подъезду. «Сейчас как миленькая начнёшь меня везде искать!»
Прошло каких-нибудь три минуты, как я вышла во двор снова и позвала Недду. Но её нигде не было. Помню пронизавший меня мучительный страх и слабость в ногах… Всплыли слова инструктора Люси: «Никогда, даже возле магазина, не оставляй одну свою собаку! Слишком много до неё охотников». Но у меня в голове не укладывалось, как может послушаться чужого человека моя Недда?!
— Недда! Недда! Недда! — плача, кричала я, но, наверное, и голос мой тонул в этом кошмарном, бесконечном снегопаде.
Потом во двор вышли мама, папа и сестрёнка, и мы снова, в четыре голоса, звали Недду. На зов никто не пришёл…
Ночью я просыпалась от того, что на меня давило что-то тяжёлое, гнетущее. Медленно до сознания доходило: «Недды нет! Нет! Нет!»
Утром я вышла на улицу. На зов никто не пришёл… Суп, сваренный для Недды, всё ещё стоял в кастрюле на окне. Опустела и затихла квартира. Шаян сидела на табуретке у двери и ждала свою подружку.
Отчаяние, горе, да, безысходное горе охватило меня. Оно было так велико, что казалось — без Недды рушится вся моя жизнь. Но во мне ещё была вера, почти уверенность в том, что моя собака найдётся. Что придёт к своему дому сама или её приведут добрые люди. Я всё время искала её: ехала ли в трамвае или сидела в классе за партой. Однажды, услышав на улице лай, похожий на Неддин, я подбежала к окну прямо посередине урока математики… Но то была вовсе не она.
Мы дали объявление в газету, и от каждого телефонного звонка замирало сердце: «А вдруг?!» Нам звонили часто, спрашивали одно и то же: «У вас пропала собака?» Говорили самое разное, и неправду, но во всё хотелось верить; сколько раз мы ехали и бежали в указанные места и возвращались ни с чем…
Недды не было. И я жила одной лишь единственной мечтой — встретить Недду с другим хозяином, пусть через год или больше… И представляла себе, как она узнает меня, вырвется, бросится ко мне, и мы уже никогда не расстанемся… И мне часто снилось, что Недда наконец нашлась.
Я была уверена, что обязательно узнаю Недду — сколько ни прошло бы лет. На правом её ухе была маленькая рваная отметина, оставленная зубами злой овчарки ещё в то время, когда Недда была жалким, неуклюжим щенком.
Пришла весна, за ней — лето, и мы смирились с нашей потерей. Мы старались не говорить о Недде, но я знала, что постоянно помню о ней не я одна.
Теперь всем нам казалось, что мы не можем жить без собаки. Нам казалось, что если взять собаку, то станет легче; а Недда… Что ж, Недда больше не вернётся… Видно, слишком далеко увезли её люди, укравшие её.
В конце лета мы взяли в клубе первый попавшийся адрес и приехали за щенком. Серые, похожие на волчат, толстолапые щенки понравились нам, и мы выбрали самую энергичную и толстую собачку с чёрной мордой и хвостом-верёвочкой.
Конечно, мы назвали её Неддой. И пусть новая Недда совсем не похожа была на ту, первую Недду, мы сразу привыкли к ней и полюбили её. Шаян с первых дней взяла щенка под своё лениводоброжелательное покровительство.
Мы не ошиблись. Действительно, с появлением новой Недды нам стало немного легче, и мы не так остро ощущали нашу потерю. И всё же, если я встречала на улице чёрную овчарку, всё холодело внутри от волнения и надежды…
Прошло пять лет. Недда выросла в хорошую статную овчарку с серой пушистой шерстью. Правда, никто не называл её красавицей, таких, как она, много гуляло по улицам нашего города. Недда была недоверчивой и злой к чужим. Уж она-то никогда не подходила к людям на улице, но и команды «фас» не любила: предпочитала отступить, огрызаясь, чем броситься на врага, как положено хорошей служебной собаке.
Однажды осенью мы с Неддой пошли на выставку собак. Мы не были её участниками, просто хотелось посмотреть на собак.
Сентябрьский день был ветрен и ярок. Жёлтые берёзовые листья шуршали на асфальте, под ногами людей и лапами собак, которых было вокруг видимо-невидимо: больших и маленьких, обвешанных медалями и без медалей. Громко фыркали курносые, чёрные, лоснящиеся на солнце французские бульдоги; поджимая тугие хвосты, прошли мимо лающих овчарок высокомерные афганские борзые; мрачно и спокойно смотрели на происходящее широкогрудые ротвейлеры; крошечная чихуа-хуа, захваченная всеобщим возбуждением, тонко и визгливо лаяла.
Недда немного робела перед догами и сенбернарами и злобно бросалась на собак молодых и тех, что были меньше её размером. Увлёкшись грызнёй с какой-то овчаркой, она на миг выпустила меня из виду и потеряла среди множества людей. Увидев, как она потерянно, испуганно смотрела вокруг, не находя меня, я сразу позвала её, потрепала за уши:
— Ну что ты, глупая, не теряйся в другой раз!
Среди нескольких овчарок, привязанных к забору и гремящих медалями на бархатных нагрудниках, я увидела одну — большую, чёрную… Я узнала и глаза — ярко-коричневые, добрые. Именно добрые, потому что у овчарок чаще бывают злые глаза. Я увидела прокушенное ухо.
Это была моя исчезнувшая Недда! Онемев, потеряв способность соображать и двигаться, я смотрела на неё.
Да, это была Недда. Взматеревшая, сильная, с еле заметной дымкой седины на морде. Я хотела крикнуть: «Недда!» — и не смогла. Я боялась пошевелиться. Мне казалось, что сейчас она тоже увидит меня и узнает.
Я была счастлива в этот миг. Я всегда верила, что Недда жива. И это чудо оказалось правдой.
Но я так и не позвала её. В мою руку ткнулся доверчиво и вопросительно нос серой Недды, тоже моей, и какое-то болезненно-тоскливое чувство на миг охватило меня. «Может быть, было предательством заводить другую собаку?» — думала я. Ну а теперь я не могла предать эту, другую.
Я дёрнула Недду за поводок и пошла прочь. Я вытирала рукавом набегающие слёзы.
«Прощай, моя чёрная собака! Пусть не с нами, но ты жива, и это главное. Скажи, моя Недда, осталась ли в твоём собачьем сердце хоть капля прежней любви?» — шептала я.
И не слышала ответа.
Женщина торопливо зашла в ванную, и через секунду оттуда с шумом вырвалась Недда и бросилась с радостным визгом прямо ко мне. Она неуклюже ласкалась и повизгивала, будто всхлипывала от слёз.
— У нас маленькая квартира, а Альма, нам сказали, будет очень большая, — оправдывалась женщина.
— Не беспокойтесь, мы её забираем обратно, — сказала мама.
— Да… Вы уж извините, что так вот…
А мы уже почти бежали вниз по лестнице с радостно суетящейся между нами Неддой. И когда мы подошли к нашему дому, Недда уверенно подбежала к подъезду, толкнула лапой дверь и, не дожидаясь нас, бросилась прямо к двери нашей квартиры.
Шаян встретила её долгим, восторженным воплем. Шаян и так была очень разговорчивой кошкой: она даже на своё имя всегда откликалась ласковым, кокетливым «мрр-м», а тут уж и вовсе разошлась — затянула радостное «мя-а-а-у-у» и стала тереться головой о Неддину морду. Недда восторженно облизала кошку, обежала всю квартиру и на радостях даже осмелилась подойти к суровой бабушке.
С возвращением Недды наш дом снова ожил. Если в свою недолгую бытность Альмой Недда разодрала кресло, то это были просто мелочи по сравнению с тем, что она вытворяла у нас. Каждый день мы натыкались то на новые изжёванные мамины сапоги, то на башмаки без подошвы, то на разорванную бабушкину калошу. Мы спешно прятали всю обувь, и теперь она то и дело сыпалась из шкафа, выползала из-под кровати или из-за стиральной машины. Но Недда быстро научилась находить кожаную обувь по запаху, и никакие внушения и угрозы не могли остановить её. Пропадали веники и щётки, расчёски и пузырьки с лекарствами, карандаши и тюбики крема. Однажды Недда ухитрилась перегрызть и съесть часть провода от телевизионной антенны. Пришлось вызывать телемастера.
В то время у нас жил грач Кузя, которого я принесла ещё летом. Какой-то шутник подрезал Кузе крылья, и он не мог летать. Недда косилась на клетку с Кузей жадными глазами, но я даже подходить к клетке ей не позволяла. Однажды, когда я чистила клетку и на минутку вышла за водой, Недда тут же бросилась к клетке, толкнула её и с грохотом уронила на пол. Когда я вбежала в комнату, Недда, забыв обо всём на свете, с лаем гонялась за Кузей. У бедного грача так стучало сердечко, что я даже испугалась за него.
Да и мало ли было других проделок, не говоря уже о лужах на полу! И всё же Недда постепенно взрослела, заметно и неумолимо росла, обещая быть и впрямь очень большой собакой. Неддин рост был предметом моей гордости: я то и дело измеряла её в холке и с радостью отмечала прибавляющиеся сантиметры. Недда теряла детскую угловатость и теперь всё больше напоминала собой овчарку, но только очень крупную и с короткой шерстью. Одно за другим встали уши, чёрная, без единого пятнышка шерсть стала блестящей и гладкой, и люди на улице всё чаще говорили: «Какая красивая собака! Что это за порода?»
Какая разница, какой породы была моя Недда?! Может быть, она была смесью овчарки и дога, а может, и кровь большой дворняги перемешалась в ней, кто знает? Главное, что она была доброй, сильной и смелой. Была моей, только моей собакой.
Я записалась в клуб собаководства и начала учить Недду собачьим премудростям. А Недда, казалось, излучала из себя сплошное непослушание и упрямство. Я говорила ей «рядом!», а она хватала своими крепнущими клыками меня за ногу или срывалась с поводка и, дразня меня, бегала вокруг.
Помню, что, когда мы пришли на первое занятие в клуб, множество больших собак совсем не испугало её, как я думала. Она легко вошла в их компанию, так, будто уже давно была с ними знакома. Она вела себя очень дружелюбно, но обидеть себя не позволяла, да и не нашлось на то охотников: все овчарки доходили моей Недде лишь до лопатки. Недда была просто возмущена тем, что я взяла её на поводок и не даю поиграть с собаками, она никак не могла понять, что мне от неё нужно, рвалась, хрипела, лаяла и мешала заниматься всей группе. Мне было ужасно стыдно, руки онемели от напряжения, и, вытирая со лба льющийся пот, я зло шептала: «Тупица! Дубина!»
Но на следующем занятии Недда была спокойнее и послушнее, а позже и вовсе оказалась образцовой ученицей, и я с тайной гордостью считала её самой умной среди всех овчарок, эрдельтерьеров, доберман-пинчеров и колли. А то, что она была самой красивой собакой, признала вся наша группа.
Однажды, в очередное воскресенье, мы тренировали собак на задержание. Наш инструктор Люся привела с собой угрюмого парня в толстой телогрейке: на него и должны были по команде «фас!» бросаться собаки.
Я очень волновалась, потому что не знала, как поведёт себя Недда. Не испугается ли, как некоторые собаки? Ведь она ещё почти щенок. И хотя, пока не дошла наша очередь, Недда злобно и яростно рвалась с поводка вместе с другими собаками, это меня не успокаивало: я-то знала, что на поводке, у ноги хозяина, любая собака чувствует себя смелой…
И вот пришла наша очередь. Парень подбежал к Недде и ударил её по морде тряпкой. Оскалившись, Недда рванулась на него.
— Ого, вот это клыки! А если прокусит? — удивлённо и беспокойно спросил парень.
— Спускай! — кивнула мне Люся и закричала вместе со мной — Фас, Недда, фас!
Но Недде команда и не требовалась. Она бросилась на парня, схватила его за рукав, потом выше, чуть не повалив его своей тяжестью. Я впервые увидела мою добрую Недду такой свирепой. Я услышала, как восхищённо присвистнули мальчишки из моей группы. Вместе с Люсей мы с трудом остановили Недду.
— Для начала неплохо, — скупо сказала она и занялась следующей собакой.
— Молодец, Недда! — Я погладила её, и она благодарно взглянула на меня коричневыми, сразу подобревшими глазами.
Когда занятие кончилось и мы, перед тем как разойтись, пустили собак поиграть между собой, ко мне подошёл парень, на которого натравливали собак.
— Как зовут твою собаку, девочка? — спросил он. — Красавица какая! А как хорошо работает! Где собачку покупали?
Я неопределённо пожала плечами.
— Послушай, девочка, продай мне собаку, а? Сколько попросишь — отдам, а? — вдруг сказал он.
— Да вы что?! — с удивлением выкрикнула я, и его неприметно-обыденное лицо сразу стало мне ненавистно.
— А что, продай! Зачем она тебе? Я дело говорю, — с напором продолжал он.
— Она не продаётся!
— Как хочешь, девочка! Лучше продай, пока за так не увели, — с усмешкой сказал он.
Настроение у меня испортилось, я позвала Недду и пошла домой.
Стояла поздняя осень. Снег ещё не выпал, а земля уже застыла и даже днём не могла оттаять от ночного мороза. Поблёкшие листья уже не были легки и ярки, как в сентябре; они прилипали к подошвам и пахли не живым деревом, а холодной землёй. Довольная жизнью, Недда носилась по безлюдному, полудикому парку, играла в догонялки с воронами и грачами. «От того заморыша, что встретился мне на помойке, не осталось и следа», — думала я.
Недда всё больше взрослела, и дома теперь установился относительный порядок.
Аппетит у Недды был звериный, и на один день ей с трудом хватало шестилитровой кастрюли супа. Недда твёрдо знала часы кормления и, когда подходило время, начинала нетерпеливо вытанцовывать возле двери, то и дело просовывая в кухню свой большой чёрный нос. И вот наконец наступал долгожданный миг! Дрожа от голода и нетерпения, Недда смотрела, как я наполняю похлёбкой её миску, больше похожую на тазик. Если к миске подходила Шаян, Недда начинала возмущённо лаять и всё же не решалась броситься к еде без моей команды. О желанное, любимейшее слово «ешь!». С громким чавканьем она моментально опустошала миску и с надеждой смотрела на кастрюлю вечно голодными глазами. Её ненасытность не имела предела.
Недда отлично знала мамин звонок. На звонки других она реагировала довольно равнодушно, но, услышав мамин, сразу вскакивала с места. Она радовалась так, будто не видела маму целый год!
Любимым её занятием было смотреть, как Шаян прыгает за солнечным зайчиком. Увидев в моих руках зеркальце, Шаян в восторге замирала, а Недда садилась и смотрела на Шаян блестящими от возбуждения глазами. Шаян забывала всё на свете. Она прыгала на стены, скользя, скребла по ним когтями. От каждого её движения Недда вздрагивала всем телом, повизгивала и глотала слюну. Как ей хотелось броситься на Шаян, поиграть с ней! Но что бы осталось от маленькой Шаян, если бы на неё опустились Неддины лапищи? Шаян это прекрасно понимала и при малейшем покушении на неё убегала, задрав пушистый хвост. Знала она и то, что входить в комнаты собаке запрещено. Порой она до тех пор играла перед носом лежащей Недды, что та не выдерживала и вскакивала. С негодующим лаем она бросалась на Шаян, но разве угонишься за кошкой на скользком полу! На пороге комнаты Шаян с победным видом останавливалась и снова начинала дразнить Недду. Дрожа от обиды и гнева, Недда вползала лапами в комнату и громко лаяла. Шаян же с деланным равнодушием и спокойствием скрывалась под кроватью.
Зима принесла нам новые радости. Недалеко от нас были луга, поросшие кустарником и камышами. Теперь они превратились в сплошное белое поле, исхоженное взад и вперёд многочисленными лыжниками. Вид лыжни волновал Недду, и она инстинктивно рвалась вперёд. Она несла меня с такой лёгкостью, силой и быстротой, что я успевала лишь уклоняться от веток, хлеставших по лицу. И если мы догоняли какого-нибудь лыжника, я с трудом удерживала Недду — в азарте она всегда пыталась схватить его за ногу, и я понимала, что видеть несущуюся на тебя с лаем огромную чёрную псину не очень-то приятно. Я старалась уходить с собакой подальше, где было меньше людей.
Во дворе у Недды появилась подружка — некрупная рыжеватая овчарка Герда. Они всегда радостно узнавали друг друга и начинали бешеную возню. Как красивы и грациозны были движения собак! Высунув красные языки, они катались по снегу, взрывая его сильными лапами. Глаза их сияли счастливым, шальным огнём. Недда никогда не убегала от Герды — всегда преследовала её. Наконец, устав, они ложились на снег, часто дыша и кося ещё не остывшими от борьбы глазами.
Недде было хорошо у нас, и нам было хорошо с ней. Иногда мы с ужасом вспоминали, что хотели когда-то избавиться от неё, как от чего-то ненужного и неудобного. Теперь мы и не представляли без неё свою жизнь. А Недда любила нас, и, конечно, всех больше — меня; любила свой дом любила кошку Шаян.
Я училась тогда в седьмом классе, мечтала о профессии зоолога, и Недда занимала всё моё свободное время. Я уже мечтала о лете, когда мы с Неддой будем купаться в Волге и ходить далеко-далеко в лес, — ведь с такой собакой бояться нечего. А сейчас мы готовились к нашему первому в жизни экзамену. Общий курс дрессировки был нами успешно пройден, и на показательном выступлении мы надеялись получить высокие баллы.
Но жизнь распорядилась иначе.
Вечер выдался красивый и тёплый. Щедрый снег валил и валил, покрывал белизной асфальт, дома и деревья и, как густой туман, скрывал в себе очертания улиц, машин и фигуры прохожих. Мы вдоволь наигрались с Неддой и теперь, совершенно промокшие, шли домой.
Не так давно возле дома в который раз уже вырыли глубокую канаву. Наверное, строители задались целью перерыть вдоль и поперёк весь наш двор. Днём Недда обычно легко перемахивала на другую сторону канавы, но сейчас то ли она устала, то ли ей не понравилась глубокая чернота на дне канавы, но она вдруг заупрямилась, попятилась назад и вытащила голову из ошейника. Поняв, что она на свободе, Недда радостно запрыгала по снегу, не обращая внимания на мой строгий голос. Она то отбегала, сразу же пропадая из виду, то подходила ко мне совсем близко, но так, чтобы я не могла поймать её. Я не на шутку рассердилась: «Ах, так? Ну подожди!» — и быстро, чтобы она не заметила, побежала к подъезду. «Сейчас как миленькая начнёшь меня везде искать!»
Прошло каких-нибудь три минуты, как я вышла во двор снова и позвала Недду. Но её нигде не было. Помню пронизавший меня мучительный страх и слабость в ногах… Всплыли слова инструктора Люси: «Никогда, даже возле магазина, не оставляй одну свою собаку! Слишком много до неё охотников». Но у меня в голове не укладывалось, как может послушаться чужого человека моя Недда?!
— Недда! Недда! Недда! — плача, кричала я, но, наверное, и голос мой тонул в этом кошмарном, бесконечном снегопаде.
Потом во двор вышли мама, папа и сестрёнка, и мы снова, в четыре голоса, звали Недду. На зов никто не пришёл…
Ночью я просыпалась от того, что на меня давило что-то тяжёлое, гнетущее. Медленно до сознания доходило: «Недды нет! Нет! Нет!»
Утром я вышла на улицу. На зов никто не пришёл… Суп, сваренный для Недды, всё ещё стоял в кастрюле на окне. Опустела и затихла квартира. Шаян сидела на табуретке у двери и ждала свою подружку.
Отчаяние, горе, да, безысходное горе охватило меня. Оно было так велико, что казалось — без Недды рушится вся моя жизнь. Но во мне ещё была вера, почти уверенность в том, что моя собака найдётся. Что придёт к своему дому сама или её приведут добрые люди. Я всё время искала её: ехала ли в трамвае или сидела в классе за партой. Однажды, услышав на улице лай, похожий на Неддин, я подбежала к окну прямо посередине урока математики… Но то была вовсе не она.
Мы дали объявление в газету, и от каждого телефонного звонка замирало сердце: «А вдруг?!» Нам звонили часто, спрашивали одно и то же: «У вас пропала собака?» Говорили самое разное, и неправду, но во всё хотелось верить; сколько раз мы ехали и бежали в указанные места и возвращались ни с чем…
Недды не было. И я жила одной лишь единственной мечтой — встретить Недду с другим хозяином, пусть через год или больше… И представляла себе, как она узнает меня, вырвется, бросится ко мне, и мы уже никогда не расстанемся… И мне часто снилось, что Недда наконец нашлась.
Я была уверена, что обязательно узнаю Недду — сколько ни прошло бы лет. На правом её ухе была маленькая рваная отметина, оставленная зубами злой овчарки ещё в то время, когда Недда была жалким, неуклюжим щенком.
Пришла весна, за ней — лето, и мы смирились с нашей потерей. Мы старались не говорить о Недде, но я знала, что постоянно помню о ней не я одна.
Теперь всем нам казалось, что мы не можем жить без собаки. Нам казалось, что если взять собаку, то станет легче; а Недда… Что ж, Недда больше не вернётся… Видно, слишком далеко увезли её люди, укравшие её.
В конце лета мы взяли в клубе первый попавшийся адрес и приехали за щенком. Серые, похожие на волчат, толстолапые щенки понравились нам, и мы выбрали самую энергичную и толстую собачку с чёрной мордой и хвостом-верёвочкой.
Конечно, мы назвали её Неддой. И пусть новая Недда совсем не похожа была на ту, первую Недду, мы сразу привыкли к ней и полюбили её. Шаян с первых дней взяла щенка под своё лениводоброжелательное покровительство.
Мы не ошиблись. Действительно, с появлением новой Недды нам стало немного легче, и мы не так остро ощущали нашу потерю. И всё же, если я встречала на улице чёрную овчарку, всё холодело внутри от волнения и надежды…
Прошло пять лет. Недда выросла в хорошую статную овчарку с серой пушистой шерстью. Правда, никто не называл её красавицей, таких, как она, много гуляло по улицам нашего города. Недда была недоверчивой и злой к чужим. Уж она-то никогда не подходила к людям на улице, но и команды «фас» не любила: предпочитала отступить, огрызаясь, чем броситься на врага, как положено хорошей служебной собаке.
Однажды осенью мы с Неддой пошли на выставку собак. Мы не были её участниками, просто хотелось посмотреть на собак.
Сентябрьский день был ветрен и ярок. Жёлтые берёзовые листья шуршали на асфальте, под ногами людей и лапами собак, которых было вокруг видимо-невидимо: больших и маленьких, обвешанных медалями и без медалей. Громко фыркали курносые, чёрные, лоснящиеся на солнце французские бульдоги; поджимая тугие хвосты, прошли мимо лающих овчарок высокомерные афганские борзые; мрачно и спокойно смотрели на происходящее широкогрудые ротвейлеры; крошечная чихуа-хуа, захваченная всеобщим возбуждением, тонко и визгливо лаяла.
Недда немного робела перед догами и сенбернарами и злобно бросалась на собак молодых и тех, что были меньше её размером. Увлёкшись грызнёй с какой-то овчаркой, она на миг выпустила меня из виду и потеряла среди множества людей. Увидев, как она потерянно, испуганно смотрела вокруг, не находя меня, я сразу позвала её, потрепала за уши:
— Ну что ты, глупая, не теряйся в другой раз!
Среди нескольких овчарок, привязанных к забору и гремящих медалями на бархатных нагрудниках, я увидела одну — большую, чёрную… Я узнала и глаза — ярко-коричневые, добрые. Именно добрые, потому что у овчарок чаще бывают злые глаза. Я увидела прокушенное ухо.
Это была моя исчезнувшая Недда! Онемев, потеряв способность соображать и двигаться, я смотрела на неё.
Да, это была Недда. Взматеревшая, сильная, с еле заметной дымкой седины на морде. Я хотела крикнуть: «Недда!» — и не смогла. Я боялась пошевелиться. Мне казалось, что сейчас она тоже увидит меня и узнает.
Я была счастлива в этот миг. Я всегда верила, что Недда жива. И это чудо оказалось правдой.
Но я так и не позвала её. В мою руку ткнулся доверчиво и вопросительно нос серой Недды, тоже моей, и какое-то болезненно-тоскливое чувство на миг охватило меня. «Может быть, было предательством заводить другую собаку?» — думала я. Ну а теперь я не могла предать эту, другую.
Я дёрнула Недду за поводок и пошла прочь. Я вытирала рукавом набегающие слёзы.
«Прощай, моя чёрная собака! Пусть не с нами, но ты жива, и это главное. Скажи, моя Недда, осталась ли в твоём собачьем сердце хоть капля прежней любви?» — шептала я.
И не слышала ответа.

СЕРАЯ ЛАРА
 Был жаркий июньский день. Асфальт и стены домов дышали зноем. Я шла в художественную школу, когда на большой многолюдной улице, в центре города, увидела воронёнка. Птенец сидел у стены дома, почти что под ногами прохожих, нахохлившись и раскрыв от жары клюв. Когда я протянула к нему руку, он слабо каркнул. Конечно, я тут же забыла о своих занятиях и, положив на землю тяжёлый этюдник, поймала его. Непонятно, как очутился этот птенец среди асфальта и камня, где вокруг не было видно ни одного дерева?
Я поехала с птицей на дачу. Мама встретила мою находку с восторгом: «Какая прелесть! Чудо!» — и тут же назвала её Ларой. Папа немного поморщился: «Знаю я эти чудеса и прелести». Он, наверное, уже представил, во что ворона превратит наш дом.
Мы решили поселить Лару в большом ящике, который пришлось быстро отремонтировать. Когда папа, окончив труды и немного полюбовавшись на произведение своего плотничьего искусства, захотел погладить ворону, она больно ущипнула его руку.
— Ну вот, — сказал он, — так и знал. Вместо благодарности.
Настроение у него совсем испортилось. Лара же успокоилась и задремала.
Когда я принесла Ларе кусочки мяса, она обиженно отвернулась. Наверное, она не знала, что это такое. Я открыла ей клюв и насильно протолкнула кусок в глотку. Проглотив мясо, Лара неистово заорала и замахала крыльями, — видно, она вспомнила, как кормили её родители. Теперь я уже не успевала засовывать куски в её разинутый клюв; от жадности она давилась и царапала руки острыми когтями.
С первого же дня она потребовала, чтобы её непрерывно кормили и развлекали. Когда мы надолго уходили от неё, ворона поднимала отчаянный крик. Успокаивалась она только в затенённом ящике.
Очень скоро Лара уже сама начала неуклюже хватать пищу. Она ухитрялась съедать так много, что перья на её зобе раздувались, она уже не могла пошевелиться и замирала, прикрыв глаза. Но, увы, ненадолго.
Был жаркий июньский день. Асфальт и стены домов дышали зноем. Я шла в художественную школу, когда на большой многолюдной улице, в центре города, увидела воронёнка. Птенец сидел у стены дома, почти что под ногами прохожих, нахохлившись и раскрыв от жары клюв. Когда я протянула к нему руку, он слабо каркнул. Конечно, я тут же забыла о своих занятиях и, положив на землю тяжёлый этюдник, поймала его. Непонятно, как очутился этот птенец среди асфальта и камня, где вокруг не было видно ни одного дерева?
Я поехала с птицей на дачу. Мама встретила мою находку с восторгом: «Какая прелесть! Чудо!» — и тут же назвала её Ларой. Папа немного поморщился: «Знаю я эти чудеса и прелести». Он, наверное, уже представил, во что ворона превратит наш дом.
Мы решили поселить Лару в большом ящике, который пришлось быстро отремонтировать. Когда папа, окончив труды и немного полюбовавшись на произведение своего плотничьего искусства, захотел погладить ворону, она больно ущипнула его руку.
— Ну вот, — сказал он, — так и знал. Вместо благодарности.
Настроение у него совсем испортилось. Лара же успокоилась и задремала.
Когда я принесла Ларе кусочки мяса, она обиженно отвернулась. Наверное, она не знала, что это такое. Я открыла ей клюв и насильно протолкнула кусок в глотку. Проглотив мясо, Лара неистово заорала и замахала крыльями, — видно, она вспомнила, как кормили её родители. Теперь я уже не успевала засовывать куски в её разинутый клюв; от жадности она давилась и царапала руки острыми когтями.
С первого же дня она потребовала, чтобы её непрерывно кормили и развлекали. Когда мы надолго уходили от неё, ворона поднимала отчаянный крик. Успокаивалась она только в затенённом ящике.
Очень скоро Лара уже сама начала неуклюже хватать пищу. Она ухитрялась съедать так много, что перья на её зобе раздувались, она уже не могла пошевелиться и замирала, прикрыв глаза. Но, увы, ненадолго.
 Как-то Лара наткнулась на корзину с яйцами. Сначала она испугалась, осторожно тронула яйцо клювом, потом с силой ударила по нему. Я не успела и рта раскрыть, как она уже пила содержимое яйца, закрыв от блаженства глаза. Я поскорее убрала корзину, но на следующий день она проникла в кухню и, отыскав её, перебила все яйца. Так с каждым днём мы всё явственнее ощущали— в нашем доме поселился хулиган.
Лара разрывала в клочки все бумаги, которые только могла найти. Больше всего ей нравились тяжёлые книжные тома в твёрдом переплёте, — видно, она любила серьёзные романы. Банку с водой, из которой пила, Лара всегда опрокидывала и разливала воду по всему полу. Однажды я попыталась накрепко привязать банку проволокой, но хитрая ворона преспокойно раскрутила все узлы, запрятала проволоку, а воду на этот раз разбрызгала особенно тщательно.
В то время у нас жила кошка Шаян. Увидев её в первый раз, Лара пришла в восторг, хотя Шаян была настроена отнюдь не столь добродушно. А Лара скакала вокруг, с любопытством рассматривая её то одним, то другим глазом, будто решая, опасна для неё кошка или нет. Сначала робко, а потом всё увереннее Лара начала дёргать Шаян за хвост и даже ущипнула за ухо. Шаян заурчала, прищурив зелёные глаза, и злобно забила по полу хвостом. Но рядом стояла я, и кошка не решилась тронуть ворону. Её тихое урчание перешло в гнусавый вой, на который Лара восторженно заверещала: «К-р-р-р!» Шаян метнулась вниз по лестнице и с тех пор старалась не встречаться с Ларой. Простодушная ворона, не замечая неприязни, всегда шумно радовалась Шаян и позже, научившись уже летать, иногда стремительно пикировала на неё сверху.
Как-то Лара наткнулась на корзину с яйцами. Сначала она испугалась, осторожно тронула яйцо клювом, потом с силой ударила по нему. Я не успела и рта раскрыть, как она уже пила содержимое яйца, закрыв от блаженства глаза. Я поскорее убрала корзину, но на следующий день она проникла в кухню и, отыскав её, перебила все яйца. Так с каждым днём мы всё явственнее ощущали— в нашем доме поселился хулиган.
Лара разрывала в клочки все бумаги, которые только могла найти. Больше всего ей нравились тяжёлые книжные тома в твёрдом переплёте, — видно, она любила серьёзные романы. Банку с водой, из которой пила, Лара всегда опрокидывала и разливала воду по всему полу. Однажды я попыталась накрепко привязать банку проволокой, но хитрая ворона преспокойно раскрутила все узлы, запрятала проволоку, а воду на этот раз разбрызгала особенно тщательно.
В то время у нас жила кошка Шаян. Увидев её в первый раз, Лара пришла в восторг, хотя Шаян была настроена отнюдь не столь добродушно. А Лара скакала вокруг, с любопытством рассматривая её то одним, то другим глазом, будто решая, опасна для неё кошка или нет. Сначала робко, а потом всё увереннее Лара начала дёргать Шаян за хвост и даже ущипнула за ухо. Шаян заурчала, прищурив зелёные глаза, и злобно забила по полу хвостом. Но рядом стояла я, и кошка не решилась тронуть ворону. Её тихое урчание перешло в гнусавый вой, на который Лара восторженно заверещала: «К-р-р-р!» Шаян метнулась вниз по лестнице и с тех пор старалась не встречаться с Ларой. Простодушная ворона, не замечая неприязни, всегда шумно радовалась Шаян и позже, научившись уже летать, иногда стремительно пикировала на неё сверху.
 Незаметно пролетел месяц. Лара любила пробираться в другие комнаты и, конечно, сразу же наводила там свой порядок. Когда я прогоняла её на чердак, она обижалась и после долго не давалась в руки. Перья на затылке у неё топорщились, она шипела на меня и старалась как можно больнее ущипнуть за палец. Но обида, наконец, проходила, и Лара всеми силами старалась доказать свою любовь: залезала мне на голову, ласково что-то бормотала, пощипывая клювом ухо, и нежно перебирала волосы. Когда я гладила её по голове и спине, она закрывала глаза и распускала крылья.
Днём Лара летала и бродила по всему саду. Она любила собирать прямо с грядок спелую «викторию», рвать цветы и прятать их в доме. Ей нравилось купаться в маленькой ямке, заросшей травой. Каждый раз, громко каркая, она требовала, чтобы я наливала ей свежей воды. Старательно окуная в воду голову, она так хлопала крыльями и хвостом, что брызги летели далеко вокруг.
Насквозь промокшая, ворона залетала на ветку яблони и начинала чистить свои перья, любовно и тщательно перебирая их клювом. Но стоило мне позвать её, как она мгновенно прилетала. Чистить перья можно было и на моей голове.
Вскоре Лара начала линять. За два дня она превратилась в невообразимую уродину. На лысой голове, словно иглы, торчали трубочки будущих перьев. Клюв стал огромным. Сквозь розовую прозрачную кожу, казалось, просвечивали все её внутренности. Но уже через неделю новое густое оперение покрыло Лару. Теперь она была похожа на взрослую птицу. Крылья её стали длинными и сильными, и она с шумом летала по всему саду. А иногда подолгу сидела на коньке крыши, с интересом глядя на пролетающих ворон.
Однажды, заигравшись, Лара улетела… Нам казалось, что она вот-вот вернётся, вынырнет откуда-нибудь из густой листвы и сядет, больно царапаясь когтями, на плечо. Но её не было.
— Ну, теперь можешь радоваться — больше грязи и беспорядка не будет! — сказала я папе.
— Да, конечно, — грустно отозвался он.
— Она запомнила наш дом. Может, прилетит? — спросила сестрёнка.
Но прошёл месяц, и мы потеряли всякую надежду найти её. Каждая пролетающая ворона казалась мне Ларой. Сколько раз я звала её: в лесу, в поле, в саду и на реке… И вдруг произошло чудо. Далеко в поле увидев сидящую на столбе ворону, я по привычке позвала её и даже не обернулась. Вдруг кто-то цепкими лапами схватил меня за волосы и заскрипел над ухом.
Это была Лара. Она вспомнила своё имя и мой голос.
— Лара! Лара! — радостно говорила я.
За время своего отсутствия ворона повзрослела. Серые глаза стали тёмно-коричневыми, красная пасть почернела.
На моём плече Лара торжественно въехала в дом. Она поскакала по обеденному столу, потом взлетела к себе на чердак и стала наводить там «порядок». В несколько минут прибранная комната превратилась в скопище мусора и хлама. Но радости нашей не было границ!
Даже папа ходил довольный, хотя и старался этого не показывать.
До самого вечера в тот день ворона летала по саду, изливая на нас любовь и радость: Вечером она залезла в свой старый ящик и заснула.
На рассвете Лара громко застучала по ящику. Я проснулась и выпустила её. Она сразу же взлетела ко мне на колени и что-то забормотала: потребовала, чтобы я её погладила. Потом стала рвать газеты, возиться со своими игрушками: опять опрокинула банку с водой, сильно ущипнула меня за палец, уронила с этажерки вазу с цветами и только после этого успокоилась. Забравшись ко мне в постель, она задремала.
Скоро она опять проснулась и застучала клювом по стеклу — просилась на улицу. Я вышла с ней на балкон. Вид у Лары был на редкость возбуждённый и довольный. Она громко, радостно каркала и обрывала листья дикого винограда. Увидев пролетавшую сороку, она каркнула ещё громче и погналась за ней. Сделав громадный круг, она вернулась на крышу. Потом снова взлетела и стала кружить над домом.
Как радостно мне было смотреть на неё! Неторопливые сильные взмахи крыльев подняли Лару высоко-высоко. Она то пикировала со свистом мне на голову, то снова взмывала ввысь, превращаясь в чёрную точку.
Вдруг Лара увидела летящих ворон. Она торопливо опустилась мне на голову, ласково ущипнула за ухо. Потом взлетела, сделала прощальный круг над домом — точно благодарила нас за сделанное ей добро — и стала догонять своих сородичей.
Она летела к лесу. Я следила за ней долго, пока она не исчезла за верхушками сосен.
Через три дня я увидела Лару на коньке крыши. Она громко каркала. Я принесла ей кусочек мяса. Лара неторопливо съела его и поднялась в небо. Больше она не прилетала…
Теперь уже никто не рвал книг, не проливал на пол воду, не набивал в щели мусора. Наш дом притих. Сколько радости вносила Лара в нашу жизнь! Наверное, она разбивала посуду, рвала книги, крала ножницы и булавки только для того, чтобы понравиться нам.
Прошло два года, и однажды на дворе я позвала пролетавшую ворону: «Лара! Лара!» Ворона резко повернулась и стала кружить надо мной. Наконец опустилась на дорогу неподалёку от меня. Я всё звала её, и, слушая мой голос, ворона наклонила голову. Я стала медленно подходить к ней, но она взлетела и громко закаркала.
Что она хотела сказать? Что объяснила мне? Быть может, это была Лара? Я долго смотрела ей вслед…
Теперь, глядя на пролетающую ворону, я всегда думаю: «А вдруг это Лара?» И как-то теплее становится на душе.
Незаметно пролетел месяц. Лара любила пробираться в другие комнаты и, конечно, сразу же наводила там свой порядок. Когда я прогоняла её на чердак, она обижалась и после долго не давалась в руки. Перья на затылке у неё топорщились, она шипела на меня и старалась как можно больнее ущипнуть за палец. Но обида, наконец, проходила, и Лара всеми силами старалась доказать свою любовь: залезала мне на голову, ласково что-то бормотала, пощипывая клювом ухо, и нежно перебирала волосы. Когда я гладила её по голове и спине, она закрывала глаза и распускала крылья.
Днём Лара летала и бродила по всему саду. Она любила собирать прямо с грядок спелую «викторию», рвать цветы и прятать их в доме. Ей нравилось купаться в маленькой ямке, заросшей травой. Каждый раз, громко каркая, она требовала, чтобы я наливала ей свежей воды. Старательно окуная в воду голову, она так хлопала крыльями и хвостом, что брызги летели далеко вокруг.
Насквозь промокшая, ворона залетала на ветку яблони и начинала чистить свои перья, любовно и тщательно перебирая их клювом. Но стоило мне позвать её, как она мгновенно прилетала. Чистить перья можно было и на моей голове.
Вскоре Лара начала линять. За два дня она превратилась в невообразимую уродину. На лысой голове, словно иглы, торчали трубочки будущих перьев. Клюв стал огромным. Сквозь розовую прозрачную кожу, казалось, просвечивали все её внутренности. Но уже через неделю новое густое оперение покрыло Лару. Теперь она была похожа на взрослую птицу. Крылья её стали длинными и сильными, и она с шумом летала по всему саду. А иногда подолгу сидела на коньке крыши, с интересом глядя на пролетающих ворон.
Однажды, заигравшись, Лара улетела… Нам казалось, что она вот-вот вернётся, вынырнет откуда-нибудь из густой листвы и сядет, больно царапаясь когтями, на плечо. Но её не было.
— Ну, теперь можешь радоваться — больше грязи и беспорядка не будет! — сказала я папе.
— Да, конечно, — грустно отозвался он.
— Она запомнила наш дом. Может, прилетит? — спросила сестрёнка.
Но прошёл месяц, и мы потеряли всякую надежду найти её. Каждая пролетающая ворона казалась мне Ларой. Сколько раз я звала её: в лесу, в поле, в саду и на реке… И вдруг произошло чудо. Далеко в поле увидев сидящую на столбе ворону, я по привычке позвала её и даже не обернулась. Вдруг кто-то цепкими лапами схватил меня за волосы и заскрипел над ухом.
Это была Лара. Она вспомнила своё имя и мой голос.
— Лара! Лара! — радостно говорила я.
За время своего отсутствия ворона повзрослела. Серые глаза стали тёмно-коричневыми, красная пасть почернела.
На моём плече Лара торжественно въехала в дом. Она поскакала по обеденному столу, потом взлетела к себе на чердак и стала наводить там «порядок». В несколько минут прибранная комната превратилась в скопище мусора и хлама. Но радости нашей не было границ!
Даже папа ходил довольный, хотя и старался этого не показывать.
До самого вечера в тот день ворона летала по саду, изливая на нас любовь и радость: Вечером она залезла в свой старый ящик и заснула.
На рассвете Лара громко застучала по ящику. Я проснулась и выпустила её. Она сразу же взлетела ко мне на колени и что-то забормотала: потребовала, чтобы я её погладила. Потом стала рвать газеты, возиться со своими игрушками: опять опрокинула банку с водой, сильно ущипнула меня за палец, уронила с этажерки вазу с цветами и только после этого успокоилась. Забравшись ко мне в постель, она задремала.
Скоро она опять проснулась и застучала клювом по стеклу — просилась на улицу. Я вышла с ней на балкон. Вид у Лары был на редкость возбуждённый и довольный. Она громко, радостно каркала и обрывала листья дикого винограда. Увидев пролетавшую сороку, она каркнула ещё громче и погналась за ней. Сделав громадный круг, она вернулась на крышу. Потом снова взлетела и стала кружить над домом.
Как радостно мне было смотреть на неё! Неторопливые сильные взмахи крыльев подняли Лару высоко-высоко. Она то пикировала со свистом мне на голову, то снова взмывала ввысь, превращаясь в чёрную точку.
Вдруг Лара увидела летящих ворон. Она торопливо опустилась мне на голову, ласково ущипнула за ухо. Потом взлетела, сделала прощальный круг над домом — точно благодарила нас за сделанное ей добро — и стала догонять своих сородичей.
Она летела к лесу. Я следила за ней долго, пока она не исчезла за верхушками сосен.
Через три дня я увидела Лару на коньке крыши. Она громко каркала. Я принесла ей кусочек мяса. Лара неторопливо съела его и поднялась в небо. Больше она не прилетала…
Теперь уже никто не рвал книг, не проливал на пол воду, не набивал в щели мусора. Наш дом притих. Сколько радости вносила Лара в нашу жизнь! Наверное, она разбивала посуду, рвала книги, крала ножницы и булавки только для того, чтобы понравиться нам.
Прошло два года, и однажды на дворе я позвала пролетавшую ворону: «Лара! Лара!» Ворона резко повернулась и стала кружить надо мной. Наконец опустилась на дорогу неподалёку от меня. Я всё звала её, и, слушая мой голос, ворона наклонила голову. Я стала медленно подходить к ней, но она взлетела и громко закаркала.
Что она хотела сказать? Что объяснила мне? Быть может, это была Лара? Я долго смотрела ей вслед…
Теперь, глядя на пролетающую ворону, я всегда думаю: «А вдруг это Лара?» И как-то теплее становится на душе.

БУЯНКА
 Район был новый. Огромные пыльные пустыри, заросшие бурьяном, окружали стройку. Вблизи поднявшихся девятиэтажек ещё виднелись развалины старых домов. Переезжая в новые квартиры, люди нередко вместе с хламом оставляли своих собак. Разномастные дворняжки собирались в стаи и, отощавшие, голодные, рыскали по всей округе.
На пустыре, неподалёку от нашего подъезда, давно лежала бетонная труба. Как-то я увидела возле неё нескольких мальчишек. Они со смехом и визгом копошились возле трубы, засовывая в неё палку. Отогнав их, я заглянула туда. На меня смотрели чьи-то испуганные глаза.
Подошёл дядя Коля, маленький тихий человек, живший в соседнем подъезде:
— Собачки там… Ишь куда спрятались. Хитрецы! Голодные небось?
Из трубы сначала робко вылез худой белый пёсик, а за ним вывалился маленький чёрный щенок. Я вынесла собакам миску супа. Они жадно ели, а я гладила их, чувствуя, как под рукой проступают хрупкие позвонки и рёбра.
С этого дня мы подружились. Имена им кто-то придумал звонкие, но малоподходящие: белого пёсика звали Пират, а щенка — Буян.
Каждый день они ждали моего возвращения из школы. Я собирала в столовой куски колбасы и котлеты и приносила им.
Обычно они поджидали меня в школьном дворе. Первым в весёлой шумной гурьбе школьников меня узнавал Пират: радостно потягиваясь, он вскакивал и бежал навстречу. Пиратка очень боялся мальчишек и, поджимая свой облезлый хвост, старался скорее домчаться до меня и спрятаться, радостно поскуливая, в моих ногах. А Буянка, по молодости ещё не успевший испытать на своей шкуре тягот бездомной жизни, смотрел на всех людей весёлыми и наивными глазами и каждому был готов дружески вильнуть пушистым хвостом. Он подбегал ко мне смешно и неуклюже и сначала долго лизал руки, а потом только принимался за еду.
Осень стояла тёплая. Друзья целыми днями играли друг с другом или, лёжа на траве, грелись на солнце.
Собаки так привыкли к школьному двору и шумной детворе, что однажды, когда я задержалась в школе, они решили сами отыскать меня.
Шестой урок был непредвиденным — к нам пришла новая учительница Белла Ивановна. Но какой ясный тёплый сентябрьский день дышал на нас из раскрытых окон; он пах пожухлой травой и дымом костра и манил нестерпимо… Мы изнывали, нам хотелось скорее на улицу, и напрасно Белла Ивановна пыталась вразумить нас своим тихим голосом.
И когда кто-то царапнул классную дверь, все мы с оживлением и любопытством уставились на неё, ожидая появления какого-нибудь нового действующего лица. Бедняжка Белла Ивановна взглянула на дверь с нескрываемой надеждой. Она подошла и торопливо отворила её. И отпрянула от неожиданности. А может, от тут же грохнувшего за её спиной смеха.
В дверях стояли Пират и Буянка! Когда весь класс захохотал, Пират поджал хвост и попятился назад. Буянка же, наоборот, уверенно вошёл в класс.
— Буянка! — закричала я.
Он бросился ко мне и чуть не запрыгнул от радости на парту.
«Неужели они смогли различить в школьном коридоре мои следы?!» — с удивлением подумала я.
— Чьи это собаки? Как они сюда попали? — ошарашенно спрашивала Белла Ивановна.
— Мои! А можно, я их выведу на улицу?
— Конечно, конечно, побыстрее.
В школу я в этот день уже не вернулась.
Наступил ноябрь. Буян рос и скоро стал крупнее маленького Пирата. Пират был одной из тех неказистых дворняжек, которые никого не смогут умилить своей красотой: шерсть у него совсем короткая, грязно-белая, висячие уши жёлтые, и такое же жёлтое пятно, похожее на кляксу, красовалось на спине. Морда была курносая, а нос розовый. И только глаза у Пирата были большие, бархатно-тёмные, с густыми жёлтыми ресницами. В них всегда стояла печаль. Видно, когда-то Пират имел хозяев, жил во дворе или в чулане и, защищая свой дом, тявкал на чужих. Теперь ему нечего было защищать… Дом сломали, хозяева уехали, и он взял под свою защиту малыша Буяна.
А у Буянки особых причин печалиться ещё не было. Ведь он уже родился бездомным и даже не знал, наверное, что у собаки должен быть хозяин. А может быть, он меня считал своей хозяйкой? Он преданно смотрел на меня серыми глазами, тыкался в ладонь мокрым чёрным носом и весело махал хвостом. Шерсть на его чёрной спине немного курчавилась. У него были рыжие подпалины, рыжие брови и морда.
Пират и Буянка были неразлучны. Теперь, когда дни стали холодными, играть и резвиться хотелось не всегда, они часто устраивались на тёплом канализационном люке, тесно прижавшись друг к другу. Меня поражала привязанность этих двух бездомных, никому не нужных собак. Однажды за Буяном с рычанием погнался холёный эрдельтерьер. И не успела я опомниться, как увидела, что Пират с визгом и лаем бросился на огромного пса, оскалил свои маленькие клыки и, закрыв глаза от страха, попытался цапнуть эрдельтерьера за нос. Эрдельтерьер даже присел от неожиданности и удивления, уставился на Пирата маленькими тёмными глазками. А я гладила Пирата по дрожащей худой спине, и он благодарно лизал мне руку.
Однако скоро я заметила в Пирате какие-то странные и недобрые перемены. Он ходил поджав хвост и опустив голову. Отказывался от пищи и смотрел на меня виновато. Не скулил и не хромал, но день ото дня становился всё печальнее. Буян тоже почувствовал что-то неладное. Тихо поскуливая, лизал сухой нос Пирата. Но и он ничем не мог помочь ему. Пират не вылезал из сухого бурьяна. Я притащила туда ящик и, как могла, утеплила его, чтобы Пират не так замерзал.
Как-то Буян пришёл в школьный двор один. Когда мы с ним забрались в бурьян и подошли к ящику, Пирата там уже не было. Больше мы его не видели.
С потерей друга Буян очень переменился. Он сразу как-то растерял свои щенячьи повадки, стал серьёзным и самостоятельным. И только рядом со мной он позволял себе подурачиться, радостно гонялся за голубями, приносил мне палки и, наконец, вставал на задние лапы, клал свои передние в мои руки и долго стоял так, глядя мне в глаза. Буянка всегда клал свои лапы в мои руки, — наверное, это было у него высшим проявлением доверия и любви. Я знала, что, кроме меня, Буян никому другому не подаёт своих лап. А знакомых у него было много. В нашем доме его знали: многие подкармливали его. Часто играла с ним моя соседка Гуля. Дядя Коля, тихий пожилой человек из соседнего подъезда, тоже часто останавливался возле Буяна, посвистывал ему:
— Что, собачка, живёшь? Голодная небось, а?
Буян добродушно махал в ответ хвостом, но к дяде Коле не подходил.
Буян вообще был очень добрый пёс. Собаки обычно избегают чужих маленьких детей, а Буян, завидев играющих в песочнице малышей, сам шёл к ним, садился рядом и, если дети дёргали его за уши или стукали по носу лопаткой, лишь улыбался довольно и кротко. Наверное, он мог бы часами сидеть с этими смешными человечками, но его обязательно гнали прочь, мамы и бабушки кричали наперебой:
— Пошёл! Пошёл! Развели заразу, детям проходу не дают!
Буян никак не мог понять, за что же его гонят, он грустнел и обижался.
Зимой стал он совсем взрослой, небольшой, но и не маленькой собакой, очень аккуратной и крепкой, с густой блестящей шерстью и пушистым, немного загнутым на конце хвостом.
Каждое утро он встречал меня у подъезда и провожал до школы. И убегал куда-то по своим делам. Но, выходя после уроков на улицу, я неизменно, даже в сильный мороз, видела моего Буянку. Мои одноклассники тоже знали Буяна, и часто кто-нибудь из них говорил мне, что видел Буянку там-то или там-то. И я удивлялась, что Буян так свободно разгуливает по большому городу.
Буянка очень любил ходить со мной в зоомагазин. С серьёзным видом бывалой хозяйской собаки он забирался в трамвай, садился у моих ног, посматривая на людей с гордым достоинством. Наверное, ему очень хотелось, чтобы люди видели — у него есть хозяйка…
Возле магазина он терпеливо ждал меня. И всегда просил, чтобы я показала ему свои приобретения. Я послушновынимала из-за пазухи тёплую банку, и Буян с весёлым любопытством рассматривал золотистых вуалехвостов, красных меченосцев и разноцветных гупёшек.
Как-то на неделю к нам привезли Чарли, любимого дедушкиного пса. Наполовину фокстерьер, Чарли, хоть и маленький, был очень сильным и злобным.
Я вышла с ним на улицу, и мы принялись весело играть с мячиком. Я не сразу заметила стоящего в стороне Буянку. Он смотрел на меня удивлённо, робко и скорбно, словно не мог поверить в происходящее. Поймав мой взгляд, слабо вильнул хвостом. Я почувствовала вдруг вину перед ним, и от слёз защипало в носу. А тут ещё Чарли заметил его и стал рваться с поводка, хрипя и лая. Не обратив на него внимания, Буян медленно пошёл прочь.
— Буянка! — в отчаянии крикнула я. Привязала Чарли к забору и бросилась за ним.
Я плакала, гладила и целовала моего Буяна, а он тихо, ревниво обнюхивал мои руки. И он всё же простил меня, добрый пёс…
В феврале мой повзрослевший Буян впервые влюбился в какую-то рыжую собачку и вместе с несколькими своими соперниками носился по улицам как одержимый. Я не звала его к себе, но он ненадолго подбегал сам, виновато вилял хвостом, дыша раскрытой покусанной пастью, и убегал снова, бросался в гущу собачьей своры, стремительный и ловкий.
Это было уже весной. Мы стояли с соседкой Гулей у подъезда и болтали о школьных делах. Буян сидел возле меня, умиротворённый после кормёжки. Подошёл дядя Коля, потрепал Буяна за ухо:
— Что, собачка? Сидишь? Ах ты, хитрец, ну хитрец!
— Он не хитрец, — сказала я.
Дядя Коля улыбнулся загадочно и ничего не ответил. Гуля нахмурилась и, как только он отошёл, сообщила мне невероятную вещь:
— Ты знаешь, почему он Буянку хитрецом называет? Мне сказали, что он — собачник!
— Да ну, глупости! Разве собачники такие бывают?! Враки всё это! — рассмеялась я.
Честно говоря, я не знала, какими бывают собачники, даже как-то не задумывалась об их существовании. По крайней мере, при слове «собачник» мне представлялся мрачный детина со зверским выражением лица. А дядя Коля! Ну какой же он собачник?! К тому же он часто ласкает Буяна.
Район был новый. Огромные пыльные пустыри, заросшие бурьяном, окружали стройку. Вблизи поднявшихся девятиэтажек ещё виднелись развалины старых домов. Переезжая в новые квартиры, люди нередко вместе с хламом оставляли своих собак. Разномастные дворняжки собирались в стаи и, отощавшие, голодные, рыскали по всей округе.
На пустыре, неподалёку от нашего подъезда, давно лежала бетонная труба. Как-то я увидела возле неё нескольких мальчишек. Они со смехом и визгом копошились возле трубы, засовывая в неё палку. Отогнав их, я заглянула туда. На меня смотрели чьи-то испуганные глаза.
Подошёл дядя Коля, маленький тихий человек, живший в соседнем подъезде:
— Собачки там… Ишь куда спрятались. Хитрецы! Голодные небось?
Из трубы сначала робко вылез худой белый пёсик, а за ним вывалился маленький чёрный щенок. Я вынесла собакам миску супа. Они жадно ели, а я гладила их, чувствуя, как под рукой проступают хрупкие позвонки и рёбра.
С этого дня мы подружились. Имена им кто-то придумал звонкие, но малоподходящие: белого пёсика звали Пират, а щенка — Буян.
Каждый день они ждали моего возвращения из школы. Я собирала в столовой куски колбасы и котлеты и приносила им.
Обычно они поджидали меня в школьном дворе. Первым в весёлой шумной гурьбе школьников меня узнавал Пират: радостно потягиваясь, он вскакивал и бежал навстречу. Пиратка очень боялся мальчишек и, поджимая свой облезлый хвост, старался скорее домчаться до меня и спрятаться, радостно поскуливая, в моих ногах. А Буянка, по молодости ещё не успевший испытать на своей шкуре тягот бездомной жизни, смотрел на всех людей весёлыми и наивными глазами и каждому был готов дружески вильнуть пушистым хвостом. Он подбегал ко мне смешно и неуклюже и сначала долго лизал руки, а потом только принимался за еду.
Осень стояла тёплая. Друзья целыми днями играли друг с другом или, лёжа на траве, грелись на солнце.
Собаки так привыкли к школьному двору и шумной детворе, что однажды, когда я задержалась в школе, они решили сами отыскать меня.
Шестой урок был непредвиденным — к нам пришла новая учительница Белла Ивановна. Но какой ясный тёплый сентябрьский день дышал на нас из раскрытых окон; он пах пожухлой травой и дымом костра и манил нестерпимо… Мы изнывали, нам хотелось скорее на улицу, и напрасно Белла Ивановна пыталась вразумить нас своим тихим голосом.
И когда кто-то царапнул классную дверь, все мы с оживлением и любопытством уставились на неё, ожидая появления какого-нибудь нового действующего лица. Бедняжка Белла Ивановна взглянула на дверь с нескрываемой надеждой. Она подошла и торопливо отворила её. И отпрянула от неожиданности. А может, от тут же грохнувшего за её спиной смеха.
В дверях стояли Пират и Буянка! Когда весь класс захохотал, Пират поджал хвост и попятился назад. Буянка же, наоборот, уверенно вошёл в класс.
— Буянка! — закричала я.
Он бросился ко мне и чуть не запрыгнул от радости на парту.
«Неужели они смогли различить в школьном коридоре мои следы?!» — с удивлением подумала я.
— Чьи это собаки? Как они сюда попали? — ошарашенно спрашивала Белла Ивановна.
— Мои! А можно, я их выведу на улицу?
— Конечно, конечно, побыстрее.
В школу я в этот день уже не вернулась.
Наступил ноябрь. Буян рос и скоро стал крупнее маленького Пирата. Пират был одной из тех неказистых дворняжек, которые никого не смогут умилить своей красотой: шерсть у него совсем короткая, грязно-белая, висячие уши жёлтые, и такое же жёлтое пятно, похожее на кляксу, красовалось на спине. Морда была курносая, а нос розовый. И только глаза у Пирата были большие, бархатно-тёмные, с густыми жёлтыми ресницами. В них всегда стояла печаль. Видно, когда-то Пират имел хозяев, жил во дворе или в чулане и, защищая свой дом, тявкал на чужих. Теперь ему нечего было защищать… Дом сломали, хозяева уехали, и он взял под свою защиту малыша Буяна.
А у Буянки особых причин печалиться ещё не было. Ведь он уже родился бездомным и даже не знал, наверное, что у собаки должен быть хозяин. А может быть, он меня считал своей хозяйкой? Он преданно смотрел на меня серыми глазами, тыкался в ладонь мокрым чёрным носом и весело махал хвостом. Шерсть на его чёрной спине немного курчавилась. У него были рыжие подпалины, рыжие брови и морда.
Пират и Буянка были неразлучны. Теперь, когда дни стали холодными, играть и резвиться хотелось не всегда, они часто устраивались на тёплом канализационном люке, тесно прижавшись друг к другу. Меня поражала привязанность этих двух бездомных, никому не нужных собак. Однажды за Буяном с рычанием погнался холёный эрдельтерьер. И не успела я опомниться, как увидела, что Пират с визгом и лаем бросился на огромного пса, оскалил свои маленькие клыки и, закрыв глаза от страха, попытался цапнуть эрдельтерьера за нос. Эрдельтерьер даже присел от неожиданности и удивления, уставился на Пирата маленькими тёмными глазками. А я гладила Пирата по дрожащей худой спине, и он благодарно лизал мне руку.
Однако скоро я заметила в Пирате какие-то странные и недобрые перемены. Он ходил поджав хвост и опустив голову. Отказывался от пищи и смотрел на меня виновато. Не скулил и не хромал, но день ото дня становился всё печальнее. Буян тоже почувствовал что-то неладное. Тихо поскуливая, лизал сухой нос Пирата. Но и он ничем не мог помочь ему. Пират не вылезал из сухого бурьяна. Я притащила туда ящик и, как могла, утеплила его, чтобы Пират не так замерзал.
Как-то Буян пришёл в школьный двор один. Когда мы с ним забрались в бурьян и подошли к ящику, Пирата там уже не было. Больше мы его не видели.
С потерей друга Буян очень переменился. Он сразу как-то растерял свои щенячьи повадки, стал серьёзным и самостоятельным. И только рядом со мной он позволял себе подурачиться, радостно гонялся за голубями, приносил мне палки и, наконец, вставал на задние лапы, клал свои передние в мои руки и долго стоял так, глядя мне в глаза. Буянка всегда клал свои лапы в мои руки, — наверное, это было у него высшим проявлением доверия и любви. Я знала, что, кроме меня, Буян никому другому не подаёт своих лап. А знакомых у него было много. В нашем доме его знали: многие подкармливали его. Часто играла с ним моя соседка Гуля. Дядя Коля, тихий пожилой человек из соседнего подъезда, тоже часто останавливался возле Буяна, посвистывал ему:
— Что, собачка, живёшь? Голодная небось, а?
Буян добродушно махал в ответ хвостом, но к дяде Коле не подходил.
Буян вообще был очень добрый пёс. Собаки обычно избегают чужих маленьких детей, а Буян, завидев играющих в песочнице малышей, сам шёл к ним, садился рядом и, если дети дёргали его за уши или стукали по носу лопаткой, лишь улыбался довольно и кротко. Наверное, он мог бы часами сидеть с этими смешными человечками, но его обязательно гнали прочь, мамы и бабушки кричали наперебой:
— Пошёл! Пошёл! Развели заразу, детям проходу не дают!
Буян никак не мог понять, за что же его гонят, он грустнел и обижался.
Зимой стал он совсем взрослой, небольшой, но и не маленькой собакой, очень аккуратной и крепкой, с густой блестящей шерстью и пушистым, немного загнутым на конце хвостом.
Каждое утро он встречал меня у подъезда и провожал до школы. И убегал куда-то по своим делам. Но, выходя после уроков на улицу, я неизменно, даже в сильный мороз, видела моего Буянку. Мои одноклассники тоже знали Буяна, и часто кто-нибудь из них говорил мне, что видел Буянку там-то или там-то. И я удивлялась, что Буян так свободно разгуливает по большому городу.
Буянка очень любил ходить со мной в зоомагазин. С серьёзным видом бывалой хозяйской собаки он забирался в трамвай, садился у моих ног, посматривая на людей с гордым достоинством. Наверное, ему очень хотелось, чтобы люди видели — у него есть хозяйка…
Возле магазина он терпеливо ждал меня. И всегда просил, чтобы я показала ему свои приобретения. Я послушновынимала из-за пазухи тёплую банку, и Буян с весёлым любопытством рассматривал золотистых вуалехвостов, красных меченосцев и разноцветных гупёшек.
Как-то на неделю к нам привезли Чарли, любимого дедушкиного пса. Наполовину фокстерьер, Чарли, хоть и маленький, был очень сильным и злобным.
Я вышла с ним на улицу, и мы принялись весело играть с мячиком. Я не сразу заметила стоящего в стороне Буянку. Он смотрел на меня удивлённо, робко и скорбно, словно не мог поверить в происходящее. Поймав мой взгляд, слабо вильнул хвостом. Я почувствовала вдруг вину перед ним, и от слёз защипало в носу. А тут ещё Чарли заметил его и стал рваться с поводка, хрипя и лая. Не обратив на него внимания, Буян медленно пошёл прочь.
— Буянка! — в отчаянии крикнула я. Привязала Чарли к забору и бросилась за ним.
Я плакала, гладила и целовала моего Буяна, а он тихо, ревниво обнюхивал мои руки. И он всё же простил меня, добрый пёс…
В феврале мой повзрослевший Буян впервые влюбился в какую-то рыжую собачку и вместе с несколькими своими соперниками носился по улицам как одержимый. Я не звала его к себе, но он ненадолго подбегал сам, виновато вилял хвостом, дыша раскрытой покусанной пастью, и убегал снова, бросался в гущу собачьей своры, стремительный и ловкий.
Это было уже весной. Мы стояли с соседкой Гулей у подъезда и болтали о школьных делах. Буян сидел возле меня, умиротворённый после кормёжки. Подошёл дядя Коля, потрепал Буяна за ухо:
— Что, собачка? Сидишь? Ах ты, хитрец, ну хитрец!
— Он не хитрец, — сказала я.
Дядя Коля улыбнулся загадочно и ничего не ответил. Гуля нахмурилась и, как только он отошёл, сообщила мне невероятную вещь:
— Ты знаешь, почему он Буянку хитрецом называет? Мне сказали, что он — собачник!
— Да ну, глупости! Разве собачники такие бывают?! Враки всё это! — рассмеялась я.
Честно говоря, я не знала, какими бывают собачники, даже как-то не задумывалась об их существовании. По крайней мере, при слове «собачник» мне представлялся мрачный детина со зверским выражением лица. А дядя Коля! Ну какой же он собачник?! К тому же он часто ласкает Буяна.
* * *
Целое лето я не видела Буяна. Часто вспоминала о нём, и у меня щемило в груди: как-то он живёт там, в пыльном городе, не забыл ли меня, не случилось ли с ним что? Приехав домой в конце августа, я тут же побежала искать Буяна. Спросила у старушек, вечно сидящих возле подъезда: — Буяна вы не видели? — Да здесь он где-то. Тут навстречу выбежал мой Буянка! Он молча бросился ко мне, прижался всем телом и замер, дрожа. Он даже закрыл глаза от радости. И только через минуту заскулил, облизывая мне лицо и руки, словно жалуясь на долгое моё отсутствие и своё одиночество. Только собаки, и больше никто в мире, умеют радоваться так самоотверженно, преданно и беззаветно. Радоваться, не тая обид, отдавая этой радости всё своё собачье сердце, всю душу, всё существо… Так радовался мне мой Буянка. Тут я заметила, что Буян исхудал за лето и хромает на переднюю лапу. Ранка была небольшая, но запущенная. Она гноилась и, видимо, причиняла Буяну много неприятностей. А он блаженно положил голову мне на колени, и только его хвост отбивал бешеную чечётку на пыльном асфальте. За несколько дней я залечила его ранку мазью Вишневского. Вскоре и спина у Буяна стала более гладкой — я старалась кормить его побольше. Потекли школьные будни. Свободного времени у меня в этом году стало гораздо меньше: я поступила в художественную школу, до которой к тому же было очень далеко ездить, и я не позволяла Буяну провожать меня туда. Да и Буян жил своей взрослой жизнью и часто теперь пропадал где-то по нескольку дней Но по-прежнему радостными были наши встречи и по-прежнему только в мои руки клал Буян свои лапы. В одно из ноябрьских воскресений пошёл первый снег. Он тихо падал большими хлопьями, и серые дома, деревья, земля становились всё светлее. Мир волшебно преображался. Я встала рано — хотелось поскорее выйти на улицу. Я взяла с собой приготовленную для Буяна еду. Я долго звала его. Но он не приходил. И тут вслед за мной вышла Гуля. Она плакала. — Буяна нет… Его убили! У меня мама с ночной смены возвращалась, ещё темно было. Она видела… собачников. С фургоном приехали. И дядя Коля с ними. Он позвал: «Буян, Буян!» Буян выбежал, и они его застрелили… Мама даже крикнуть не успела, они уехали. Я же говорила тебе, что дядя Коля собачник! А ты не верила! Всё оборвалось у меня в груди. Белый, сияющий первым снегом мир потемнел. — Не может быть! Как?! А может, это не Буян был? — Нет, Буян, мама его знает. — Пошли! — закричала я. — Куда? — спросила Гуля. — Ты знаешь, какая у него квартира? Я его… Я с ним… Я разнесу ему дверь, я убью его… — плакала я. И мы побежали к соседнему подъезду. Отчаяние и ненависть клокотали во мне. Мне и в самом деле казалось, что я убью дядю Колю. Мы позвонили в голую, необитую дверь. Ждать пришлось долго. Наконец замок щёлкнул. Я сжала кулаки. Открыл дядя Коля. Стоял он, сгорбившись, держась за сердце, в старой, выцветшей пижаме. Он узнал нас и, мне показалось, понял, зачем мы пришли. А я поняла с отчаянием, что никак не могу отомстить сейчас этому жалкому человеку, держащемуся за сердце. — Это вы убили Буяна. Как вы смогли?! Вы же гладили его, — сказала я. Губы его дрогнули. — Работа у меня. У каждого своя работа. Я не хотел, но меня послали в наш район. Я не хотел… Но ведь работа… — Ведь вы же его кормили! — повторила я. — Пошли, Гуля! — И мы стали спускаться вниз. Позади нас тихо закрылась дверь. В тот день, день первого чистого снега, мир обеднел на одно живое существо. Мало кто заметил пропажу, а я никак не могла поверить в то, что никогда уже не увижу добрых доверчивых глаз своего друга, который никогда уже не положит в мои руки своих крепких, тяжёлых лап. И ещё что-то важное и страшное открыла я для себя в тот день. Идут годы. Буяна давно нет. Но я до сих пор помню его, обыкновенного уличного пса, который так любил людей и верил им. Иногда во дворе я вижу тихого, одинокого человека…
МАЛЕНЬКИЙ МУЗЫКАНТ ЧИРП
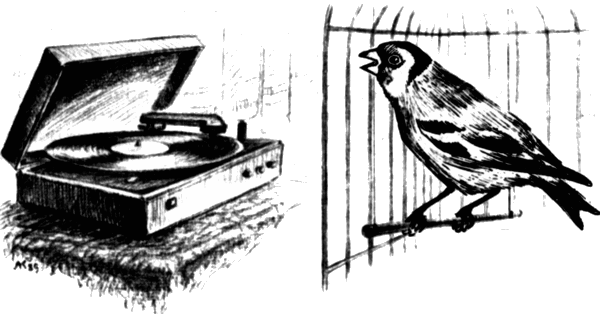 Птичий рынок. Магическое слово, вмещающее в себя так много удивительного и волшебного. Я всю неделю жду воскресенья. Оно для меня начинается с Птичьего рынка. Встав раньше всех, прошлёпав босиком по холодному полу на кухню, я тщательно мою баночку с крышкой, потом снова и снова присматриваюсь к своим рыбкам: каких же ещё купить сегодня?! Одеваюсь потеплее и, сунув банку за пазуху, выскакиваю на улицу.
Застуженный зимний трамвай несёт меня к цели, и уже на остановке я вливаюсь в поток людей, стремящихся туда же, на Птичий рынок. Я слышу собачий лай, вижу чернеющую вдали толпу, и ноги сами всё быстрее и нетерпеливее несут меня вперёд.
Уже издали я чувствую знакомый запах горящих спиртовок, прохожу мимо собак и птиц к длинному ряду аквариумистов. И к собакам, и к птицам я потом обязательно вернусь, но сначала — рыбки, рыбки! Большие и маленькие переносные аквариумы полны сверкающих живых драгоценностей. Проталкиваясь сквозь стену мальчишек, извечных посетителей Птичьего рынка, я смотрю на отливающих фантастическими цветами смарагдовых гуппи, на нежно-розовых лялиусов и полосатых макроподов; я мысленно примериваюсь к умопомрачительным полосатым барбусятам-суматранусам и серебряным блюдцам-скаляриям и с завистью смотрю на недоступную фиолетово-синюю цихлиду. Мне хочется купить и полосатых данюшек, и длинноусых голубых гурами, и добрых неуклюжих сомиков… Меня, как всегда, охватывает растерянность, и, мучимая соблазнами, я хожу кругами, долго выбираю мотыль: мне нужно, чтобы он был рубиново-красный и упругий. За годы моих «аквариумных страстей» я уже научилась разбираться в мотыле.
На этот раз я пришла с твёрдым намерением купить несколько молодых огненных барбусов, но, увидев великолепных длиннохвостых петушков, я решаю, что они мне нравятся сильнее и, не приняв никакого решения, бреду смотреть птиц и собак.
Мимо канареек и волнистых попугайчиков я обычно прохожу быстро. Они кажутся мне совершенно одинаковыми, а когда я вижу щеглов и чижей, снегирей и клестов, грызущих прутья клеток своими загнутыми клювами, мне всегда, до щемящей боли, жалко их: они когда-то летали по лесам и оврагам, пели свои песенки и не гадали, что попадут в клетку… Будь моя воля, я выпустила бы их всех, не раздумывая.
Ко мне вдруг подскакивает пожилой и помятый мужичок с бумажным пакетиком в корявых руках.
— Девочка, возьми щегла, задаром отдаю!
Я заглядываю в пакетик, и оттуда на меня смотрят испуганные чёрные бусинки. Щегол имеет явно не лучший вид и дышит тяжело, приоткрыв клюв.
— Вы же его задушите! Как вы его держите?!
— А чё ему будет! — крякает мужичок, выпустив мне в лицо облако перегара, и ещё сильнее сжимает бумажный пакетик. Щегол безнадёжно и жалобно верещит.
— Сколько?! — в отчаянии спрашиваю я.
— За трояк отдам, бери! — с надеждой хрипит мужик.
И я, хотя мне вовсе не нужен щегол, а нужны огненные барбусы, достаю вдруг единственные три рубля, и вот уже у меня в руках бумажный пакетик… Мне кажется, что сквозь газету мои пальцы чувствуют биение крошечного щеглиного сердца. Где-то на балконе у нас есть старая клетка, мы купили когда-то волнистых попугайчиков, голубого и зелёного, а на следующее утро они умерли. С тех пор, кроме голубей, других птиц у меня не было.
За пазухой щегол притих, пригрелся и перестал верещать. Только в трамвае я заметила, как у меня замёрзли ноги.
Старая, чуть погнутая и кое-где поржавевшая клетка вполне подошла для нового члена нашей семьи. Мы повесили клетку высоко, вплотную к оконному стеклу. Щегол немного побился о её стенки, но быстро успокоился и, устроившись на жёрдочке, принялся приводить в порядок своё помятое оперение.
Я назвала его Чирпом. Видимо, его поймали этой осенью. Он был диковат, но в то же время с каждым днём в нём раскрывалась его общительная и жизнерадостная натура. Он много чирикал на своём щеглином языке, и мне казалось, что он часто повторяет своё имя: «Чирп, чирп, чирп!»
Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, — целыми днями скакал Чирп с жёрдочки на жёрдочку, и комната, наполнившись его нехитрым щебетом, вдруг удивительно ожила. А когда низкое зимнее солнце жёлтыми прямоугольниками падало на стены, в комнате становилось весело и празднично. В сумерках Чирп успокаивался, долго чистил перья, а потом, спрятав голову под крыло, превращался в пушистый нежно-кремовый шарик. Спящий Чирп всегда казался мне беззащитным и одиноким; хотелось тихо взять в ладони этот тёплый живой комочек.
На наш балкон то и дело заглядывали воробьи и синицы. И Чирп мгновенно настораживался, ерошил пёрышки на ярко-красном затылке и воинственно чирикал.
Однажды произошло то, чего я давно и тайно ждала от Чирпа: он запел.
Как-то, возвратясь из школы в унылом настроении, я взяла пластинку с концертом Вивальди. С первыми звуками скрипки Чирп насторожился, затих, медленно вытягивая шею, и вдруг запел.
Он запел сразу, захлёбываясь, торопливо и жадно, стараясь пересилить своим голосом целый камерный оркестр! Я выключила музыку — замолчал и Чирп. Включила снова, и снова он запел.
Казалось бы, ну что там щегол? Куда ему до соловьиных трелей! Но для меня песенка Чирпа была самой красивой и звучной. Да и вообще, разве могут у птиц быть некрасивые голоса? и в ворковании уличных голубей, и в чириканье воробьёв, даже в истошном курином кудахтанье — во всём есть своя неповторимая музыка.
…Так думала я, слушая Вивальди и Чирпа. Песня Чирпа была наполнена солнечным, ликующим весенним теплом. Я закрыла глаза и оказалась в лесу, среди дымчатых стволов и прелой земли с редкими, фиолетовыми глазками первых фиалок…
Музыкальные вкусы Чирпа выяснились очень скоро. Больше всего Чирпу нравились скрипичные концерты Вивальди и других композиторов барокко. Паганини вызывал у Чирпа какую-то нервозность. Любил он симфонический оркестр, а к фортепиано оставался совершенно равнодушен. Чайковский Чирпу нравился, а Рахманинов — нет. Видно, казался слишком сложным. Из певиц Чирп признавал лишь Елену Образцову, а вот мужских голосов терпеть не мог, сразу начинал сердито скакать — дзинь-дзинь — и бить крыльями по клетке. Зарубежную и советскую эстраду Чирп просто игнорировал.
Вообще мне казалось, что у нас с Чирпом очень схожие вкусы.
Мы слушали так много музыки, что Чирп постепенно «распелся», и теперь всё чаще начинал петь в тишине квартиры. А может, начал чувствовать близость весны, ведь стоял уже февраль, ветреный и снежный. Огненных барбусов я так и не купила и теперь уже подумывала о том, не купить ли для Чирпа подругу.
В конце февраля надоедливы и утомительны зимние дни. Уже не хочешь снега и мороза, а снег идёт и идёт, лёгкий, пушистый; и морозец бодренько поскрипывает тёмными вечерами, и ничто, казалось бы, не говорит о конце зимы. И всё нетерпеливее ждёшь марта, в душе надеясь, что весна придёт в первый же мартовский день. А весна часто обманывает, и март несёт с собой тот же холод и снег.
Мы, наивные люди, легко верим зиме и крепко держимся за свои шубы и лохматые шапки. И только птицы не обращают внимания на это зимнее коварство; их не обманешь, не обведёшь вокруг пальца, как нас. Голуби уже метут хвостами тротуары, вышагивая вокруг своих голубок. Воробьи истошно чирикают на карнизах, а вороны и галки всё чаще выделывают в небе рискованные пируэты.
Наш маленький музыкант тоже предчувствовал близость весны.
Может, тихо сказало ему об этом яркое солнце, бьющее в его клетку в редкие ясные дни; а может, сообщили болтливые воробьи или протенькали синицы, перед тем как перебраться из города в родные леса.
Но Чирп пел самозабвенно, вдохновенно, ликующе, как будто сидел не в тесной клетке, а в ветвях высокой берёзы в весеннем, полном запахами и звуками лесу. Его голос становился сильнее с каждым днём, и песня наполнялась всё новыми красками и оттенками.
Изо всех сил Чирп звал весну.
И весна пришла. Сразу растопила грязный городской снег. Заблестела на потолке и стенах солнечными отражениями из луж. Раскрыла на деревьях разбухшие почки и наполнила лес птичьими голосами. Вместе со всеми птицами прилетели и братья нашего Чирпа — щеглы. Прилетели, чтобы петь свои песенки, строить гнёзда, выводить щеглят… А Чирп сидел в своей клетке и пел, пел, пел.
Я долго не могла понять, что меня мучает. Это было со мной впервые. И чем жарче грело солнце, чем зеленее становились деревья и душистее воздух, тем тяжелее становилось у меня на душе.
И вот, вынеся клетку с Чирпом на балкон, увидев, как он вдруг жалко и безнадёжно забил крыльями по клетке, как засверкали его чёрные бусинки-глаза и как он задышал, часто, с приоткрытым клювом, я поняла, что не даёт мне покоя. Рабство маленького весёлого Чирпа! «Зачем он поёт, — думала я, — когда его песни не слышит лес, не слышит щеглиха, не слышат соперники-щеглы? Никто не слышит самой красивой в мире песни. И самый лучший в мире щегол томится в жалкой клетке, и ему не знать больше этого прекрасного приволья!»
Наверное, своей бесконечной песней, своим громким голосом Чирп готов был заглушить не один, а целый десяток симфонических оркестров. Мне хотелось сказать ему: «Перестань! Зачем ты так поёшь?» — но он бы всё равно не послушался меня, я знаю.
Я много читала о том, что птица, прожившая в неволе даже немного и выпущенная на свободу, обязательно погибает. Но какая великая подлость обрекать птицу, рождённую жить своей короткой, но свободной жизнью, на долгие годы унылого заточения, на жестокий квадратик, отсеченный от мира сеткой, и две перекладинки — дзинь-дзинь. Дзинь-дзинь. Туда — обратно. День — ночь. Лето — зима.
Зачем?! Не лучше ли погибнуть, но насладиться солнцем и небом, летним ветром и биением зелёной листвы…
Я не хочу иной судьбы для маленького музыканта Чирпа. Я не верю, что Чирп погибнет.
Апрельским утром, душистым и тёплым, я не пошла в школу, а поехала на вокзал. В руках у меня была повязанная плотной тряпицей клетка с Чирпом. Я села в электричку и вышла в Займище.
Я медленно шла по тропинке, пиная ногами прошлогодние шишки, дышала и не могла надышаться воздухом леса. Я даже забыла, для чего я здесь и что несу в руках. Я смотрела на мягкие рыжие закорючинки молодого папоротника, вылезающего из-под чёрной листвы, на первые робкие цветки медуницы, на пчёл и шмелей, на проснувшихся крапивниц и остатки пористого снега по склону оврага. Надо мной в колючих старых елях пели зяблики и чижи и ещё множество птиц, голосов которых я ещё тогда не знала. А потом из прохладного елового мрака я вышла к светлым берёзам и здесь только, на пронизанной солнцем поляне, очнулась и вспомнила о Чирпе.
Где-то в ветвях пел щегол. Я развернула клетку и открыла дверцу. Притихший, ошеломлённый, Чирп ничего не понял и сидел на своей жёрдочке, удивлённо озираясь. Я легонько ударила ладонью по клетке. Чирп нерешительно пододвинулся к открытой дверце, выглянул из клетки, замер, словно не веря самому себе. И вдруг: «Ф-ррр!» — свистнули мимо меня его затрепетавшие крылья, он метнулся к деревьям и мгновенно растворился среди светлого берёзового леса.
Я постояла ещё на поляне и пошла обратно, размахивая пустой клеткой с раскрытой дверцей.
Птичий рынок. Магическое слово, вмещающее в себя так много удивительного и волшебного. Я всю неделю жду воскресенья. Оно для меня начинается с Птичьего рынка. Встав раньше всех, прошлёпав босиком по холодному полу на кухню, я тщательно мою баночку с крышкой, потом снова и снова присматриваюсь к своим рыбкам: каких же ещё купить сегодня?! Одеваюсь потеплее и, сунув банку за пазуху, выскакиваю на улицу.
Застуженный зимний трамвай несёт меня к цели, и уже на остановке я вливаюсь в поток людей, стремящихся туда же, на Птичий рынок. Я слышу собачий лай, вижу чернеющую вдали толпу, и ноги сами всё быстрее и нетерпеливее несут меня вперёд.
Уже издали я чувствую знакомый запах горящих спиртовок, прохожу мимо собак и птиц к длинному ряду аквариумистов. И к собакам, и к птицам я потом обязательно вернусь, но сначала — рыбки, рыбки! Большие и маленькие переносные аквариумы полны сверкающих живых драгоценностей. Проталкиваясь сквозь стену мальчишек, извечных посетителей Птичьего рынка, я смотрю на отливающих фантастическими цветами смарагдовых гуппи, на нежно-розовых лялиусов и полосатых макроподов; я мысленно примериваюсь к умопомрачительным полосатым барбусятам-суматранусам и серебряным блюдцам-скаляриям и с завистью смотрю на недоступную фиолетово-синюю цихлиду. Мне хочется купить и полосатых данюшек, и длинноусых голубых гурами, и добрых неуклюжих сомиков… Меня, как всегда, охватывает растерянность, и, мучимая соблазнами, я хожу кругами, долго выбираю мотыль: мне нужно, чтобы он был рубиново-красный и упругий. За годы моих «аквариумных страстей» я уже научилась разбираться в мотыле.
На этот раз я пришла с твёрдым намерением купить несколько молодых огненных барбусов, но, увидев великолепных длиннохвостых петушков, я решаю, что они мне нравятся сильнее и, не приняв никакого решения, бреду смотреть птиц и собак.
Мимо канареек и волнистых попугайчиков я обычно прохожу быстро. Они кажутся мне совершенно одинаковыми, а когда я вижу щеглов и чижей, снегирей и клестов, грызущих прутья клеток своими загнутыми клювами, мне всегда, до щемящей боли, жалко их: они когда-то летали по лесам и оврагам, пели свои песенки и не гадали, что попадут в клетку… Будь моя воля, я выпустила бы их всех, не раздумывая.
Ко мне вдруг подскакивает пожилой и помятый мужичок с бумажным пакетиком в корявых руках.
— Девочка, возьми щегла, задаром отдаю!
Я заглядываю в пакетик, и оттуда на меня смотрят испуганные чёрные бусинки. Щегол имеет явно не лучший вид и дышит тяжело, приоткрыв клюв.
— Вы же его задушите! Как вы его держите?!
— А чё ему будет! — крякает мужичок, выпустив мне в лицо облако перегара, и ещё сильнее сжимает бумажный пакетик. Щегол безнадёжно и жалобно верещит.
— Сколько?! — в отчаянии спрашиваю я.
— За трояк отдам, бери! — с надеждой хрипит мужик.
И я, хотя мне вовсе не нужен щегол, а нужны огненные барбусы, достаю вдруг единственные три рубля, и вот уже у меня в руках бумажный пакетик… Мне кажется, что сквозь газету мои пальцы чувствуют биение крошечного щеглиного сердца. Где-то на балконе у нас есть старая клетка, мы купили когда-то волнистых попугайчиков, голубого и зелёного, а на следующее утро они умерли. С тех пор, кроме голубей, других птиц у меня не было.
За пазухой щегол притих, пригрелся и перестал верещать. Только в трамвае я заметила, как у меня замёрзли ноги.
Старая, чуть погнутая и кое-где поржавевшая клетка вполне подошла для нового члена нашей семьи. Мы повесили клетку высоко, вплотную к оконному стеклу. Щегол немного побился о её стенки, но быстро успокоился и, устроившись на жёрдочке, принялся приводить в порядок своё помятое оперение.
Я назвала его Чирпом. Видимо, его поймали этой осенью. Он был диковат, но в то же время с каждым днём в нём раскрывалась его общительная и жизнерадостная натура. Он много чирикал на своём щеглином языке, и мне казалось, что он часто повторяет своё имя: «Чирп, чирп, чирп!»
Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, — целыми днями скакал Чирп с жёрдочки на жёрдочку, и комната, наполнившись его нехитрым щебетом, вдруг удивительно ожила. А когда низкое зимнее солнце жёлтыми прямоугольниками падало на стены, в комнате становилось весело и празднично. В сумерках Чирп успокаивался, долго чистил перья, а потом, спрятав голову под крыло, превращался в пушистый нежно-кремовый шарик. Спящий Чирп всегда казался мне беззащитным и одиноким; хотелось тихо взять в ладони этот тёплый живой комочек.
На наш балкон то и дело заглядывали воробьи и синицы. И Чирп мгновенно настораживался, ерошил пёрышки на ярко-красном затылке и воинственно чирикал.
Однажды произошло то, чего я давно и тайно ждала от Чирпа: он запел.
Как-то, возвратясь из школы в унылом настроении, я взяла пластинку с концертом Вивальди. С первыми звуками скрипки Чирп насторожился, затих, медленно вытягивая шею, и вдруг запел.
Он запел сразу, захлёбываясь, торопливо и жадно, стараясь пересилить своим голосом целый камерный оркестр! Я выключила музыку — замолчал и Чирп. Включила снова, и снова он запел.
Казалось бы, ну что там щегол? Куда ему до соловьиных трелей! Но для меня песенка Чирпа была самой красивой и звучной. Да и вообще, разве могут у птиц быть некрасивые голоса? и в ворковании уличных голубей, и в чириканье воробьёв, даже в истошном курином кудахтанье — во всём есть своя неповторимая музыка.
…Так думала я, слушая Вивальди и Чирпа. Песня Чирпа была наполнена солнечным, ликующим весенним теплом. Я закрыла глаза и оказалась в лесу, среди дымчатых стволов и прелой земли с редкими, фиолетовыми глазками первых фиалок…
Музыкальные вкусы Чирпа выяснились очень скоро. Больше всего Чирпу нравились скрипичные концерты Вивальди и других композиторов барокко. Паганини вызывал у Чирпа какую-то нервозность. Любил он симфонический оркестр, а к фортепиано оставался совершенно равнодушен. Чайковский Чирпу нравился, а Рахманинов — нет. Видно, казался слишком сложным. Из певиц Чирп признавал лишь Елену Образцову, а вот мужских голосов терпеть не мог, сразу начинал сердито скакать — дзинь-дзинь — и бить крыльями по клетке. Зарубежную и советскую эстраду Чирп просто игнорировал.
Вообще мне казалось, что у нас с Чирпом очень схожие вкусы.
Мы слушали так много музыки, что Чирп постепенно «распелся», и теперь всё чаще начинал петь в тишине квартиры. А может, начал чувствовать близость весны, ведь стоял уже февраль, ветреный и снежный. Огненных барбусов я так и не купила и теперь уже подумывала о том, не купить ли для Чирпа подругу.
В конце февраля надоедливы и утомительны зимние дни. Уже не хочешь снега и мороза, а снег идёт и идёт, лёгкий, пушистый; и морозец бодренько поскрипывает тёмными вечерами, и ничто, казалось бы, не говорит о конце зимы. И всё нетерпеливее ждёшь марта, в душе надеясь, что весна придёт в первый же мартовский день. А весна часто обманывает, и март несёт с собой тот же холод и снег.
Мы, наивные люди, легко верим зиме и крепко держимся за свои шубы и лохматые шапки. И только птицы не обращают внимания на это зимнее коварство; их не обманешь, не обведёшь вокруг пальца, как нас. Голуби уже метут хвостами тротуары, вышагивая вокруг своих голубок. Воробьи истошно чирикают на карнизах, а вороны и галки всё чаще выделывают в небе рискованные пируэты.
Наш маленький музыкант тоже предчувствовал близость весны.
Может, тихо сказало ему об этом яркое солнце, бьющее в его клетку в редкие ясные дни; а может, сообщили болтливые воробьи или протенькали синицы, перед тем как перебраться из города в родные леса.
Но Чирп пел самозабвенно, вдохновенно, ликующе, как будто сидел не в тесной клетке, а в ветвях высокой берёзы в весеннем, полном запахами и звуками лесу. Его голос становился сильнее с каждым днём, и песня наполнялась всё новыми красками и оттенками.
Изо всех сил Чирп звал весну.
И весна пришла. Сразу растопила грязный городской снег. Заблестела на потолке и стенах солнечными отражениями из луж. Раскрыла на деревьях разбухшие почки и наполнила лес птичьими голосами. Вместе со всеми птицами прилетели и братья нашего Чирпа — щеглы. Прилетели, чтобы петь свои песенки, строить гнёзда, выводить щеглят… А Чирп сидел в своей клетке и пел, пел, пел.
Я долго не могла понять, что меня мучает. Это было со мной впервые. И чем жарче грело солнце, чем зеленее становились деревья и душистее воздух, тем тяжелее становилось у меня на душе.
И вот, вынеся клетку с Чирпом на балкон, увидев, как он вдруг жалко и безнадёжно забил крыльями по клетке, как засверкали его чёрные бусинки-глаза и как он задышал, часто, с приоткрытым клювом, я поняла, что не даёт мне покоя. Рабство маленького весёлого Чирпа! «Зачем он поёт, — думала я, — когда его песни не слышит лес, не слышит щеглиха, не слышат соперники-щеглы? Никто не слышит самой красивой в мире песни. И самый лучший в мире щегол томится в жалкой клетке, и ему не знать больше этого прекрасного приволья!»
Наверное, своей бесконечной песней, своим громким голосом Чирп готов был заглушить не один, а целый десяток симфонических оркестров. Мне хотелось сказать ему: «Перестань! Зачем ты так поёшь?» — но он бы всё равно не послушался меня, я знаю.
Я много читала о том, что птица, прожившая в неволе даже немного и выпущенная на свободу, обязательно погибает. Но какая великая подлость обрекать птицу, рождённую жить своей короткой, но свободной жизнью, на долгие годы унылого заточения, на жестокий квадратик, отсеченный от мира сеткой, и две перекладинки — дзинь-дзинь. Дзинь-дзинь. Туда — обратно. День — ночь. Лето — зима.
Зачем?! Не лучше ли погибнуть, но насладиться солнцем и небом, летним ветром и биением зелёной листвы…
Я не хочу иной судьбы для маленького музыканта Чирпа. Я не верю, что Чирп погибнет.
Апрельским утром, душистым и тёплым, я не пошла в школу, а поехала на вокзал. В руках у меня была повязанная плотной тряпицей клетка с Чирпом. Я села в электричку и вышла в Займище.
Я медленно шла по тропинке, пиная ногами прошлогодние шишки, дышала и не могла надышаться воздухом леса. Я даже забыла, для чего я здесь и что несу в руках. Я смотрела на мягкие рыжие закорючинки молодого папоротника, вылезающего из-под чёрной листвы, на первые робкие цветки медуницы, на пчёл и шмелей, на проснувшихся крапивниц и остатки пористого снега по склону оврага. Надо мной в колючих старых елях пели зяблики и чижи и ещё множество птиц, голосов которых я ещё тогда не знала. А потом из прохладного елового мрака я вышла к светлым берёзам и здесь только, на пронизанной солнцем поляне, очнулась и вспомнила о Чирпе.
Где-то в ветвях пел щегол. Я развернула клетку и открыла дверцу. Притихший, ошеломлённый, Чирп ничего не понял и сидел на своей жёрдочке, удивлённо озираясь. Я легонько ударила ладонью по клетке. Чирп нерешительно пододвинулся к открытой дверце, выглянул из клетки, замер, словно не веря самому себе. И вдруг: «Ф-ррр!» — свистнули мимо меня его затрепетавшие крылья, он метнулся к деревьям и мгновенно растворился среди светлого берёзового леса.
Я постояла ещё на поляне и пошла обратно, размахивая пустой клеткой с раскрытой дверцей.

ЩЕНКИ В ЧЕМОДАНЕ
 В январе пришли настоящие морозы. Вот уже несколько дней густой неподвижный воздух стоял над городом. Вслед за голубями на чердаки спрятались вороны и галки, бездомные кошки не вылезали из тёплых подвалов. И лишь бойкие, раздувшиеся пушистыми шариками воробьи прыгали под ногами торопливых, закутанных прохожих, воротники, шапки и платки которых на морозе тут же зарастали инеем.
В один из таких дней я взяла собаку и отправилась на большой пустырь, он начинался сразу за широким новым проспектом. В такой мороз даже Недда с её пушистой густой шерстью чувствовала себя не очень уютно. Её чёрная морда тут же покрылась густым инеем, и она начала поднимать то одну, то другую мёрзнущую лапу.
— Эх, а ещё овчарка! — сказала я.
Недда виновато скосила на меня глаза и поглядела назад, видимо вспомнив о тёплом доме.
Поиграв на скрипящем снегу, мы разогрелись и повеселели. Недда нашла большую палку и стала носиться с ней среди кустов ивняка. Солнце постепенно тускнело, опускалось всё ниже, а с другой стороны неба на город ползли лиловые сумерки. Я подумала о несделанных уроках и свернула на узкую тропинку, ведущую назад.
Я не сразу заметила, что Недда куда-то подевалась. Потом я услышала её лай. Она лаяла за кустами и никак не шла ко мне. Рассердившись, с большим желанием задать ей хорошую трёпку, я пошла на её голос, проваливаясь в глубоком снегу и на чём свет стоит кляня её.
Моим глазам предстала странная картина. Под кустом лежал большой ободранный чемодан, перед чемоданом, поднимая мёрзнущие лапы, сидела Недда и лаяла. Увидев меня, она вскочила, суетливо бросилась ко мне, потом к чемодану и снова ко мне, явно предлагая мне проявить к этому предмету интерес.
Я бы и смотреть на чемодан не стала — мало ли ненужных вещей выбрасывают на пустыри, — но тут услышала слабый писк. Да, я не ослышалась. В чемодане кто-то пищал!
Я открыла чемодан. Густой тёплый пар повалил из него, и в нём, среди обрывков каких-то тряпичных лоскутов, я увидела четырёх щенят. Я не могла поверить своим глазам. Безлюдный пустырь, снег, мороз — и живые щенки в чемодане! Кто же принёс их сюда?! Да неужели существуют такие люди?
Я закрыла чемодан, чтобы из него не ушёл весь тёплый воздух, и застыла над ним в каком-то оцепенении. Не оставишь ведь щенков замерзать на морозе. Недда заглядывала мне в глаза, повизгивала и лаяла.
Забыв о морозе, я тащила тяжёлый чемодан, пыталась представить себе, что скажут родители, когда я войду в дом. Но разве я была в чём-то виновата? Разве виновата я в том, что мне, как нарочно, всё время встречаются бескрылые голуби, голодные котята, больные воробьи и потерявшиеся собаки?! Я даже как-то спрашивала об этом своих одноклассников: наверное, не только мне одной они попадаются. Но я ошиблась: им никто не встречается! А мне… Это какой-то рок. Но щенки в чемодане? Даже придумать такое немыслимо.
Всю дорогу домой Недда поскуливала, то и дело подбегала к чемодану, принюхивалась к нему.
Поставив чемодан в углу коридора, возле нашей квартиры, я долго не решалась позвонить в дверь. Пригревшись в тепле, щенки сладко и беззаботно спали. У них вот-вот должны были открыться глазки. Двое из них были очень похожие, чёрно-белые, третий был серый, а четвёртый — рыжий. Чистокровные дворняжки, и никакого намёка на благородную породу.
Но вот я позвонила, и через минуту вся наша семья в полном сборе в таком же оцепенелом состоянии стояла над злополучным чемоданом. Папа просто молчал, мама в отчаянии повторяла: «Как же нам быть?» — мы с сестрёнкой молчали тоже. Соседи слева и соседи справа с любопытством выглядывали в коридор, и скоро весь этаж собрался возле щенков.
Тётя Соня, соседка слева, запричитала:
— Ой, бедненькие, кто же вас так?! Они голодные небось? А не умерли, а?
Соседи слева, Гареевы, долго молчали, и круглые лица их всё больше мрачнели и темнели.
— Неужели вы думаете их здесь держать?! Мы не позволим разводить грязь и вонь! Держите в своей квартире. Тащут всякую гадость! Безобразие! — наконец высказалась тётя Роза, а её муж молчаливо и со скрытой угрозой кивнул.
— Что вы, на мороз, что ли, их? Девочка правильно поступила, не могла же она их бросить! — защищала меня добрая тётя Соня.
— Вот вы и возьмите их, Соня! — заметила тётя Роза.
— Да куда ж, в одну комнату…
— А что происходит, товарищи? — заглядывал через головы очкастый дядька, сосед с девятого этажа.
— Мы будем на вас жаловаться, — уже в два голоса сказали Гареевы и хлопнули своей дверью.
Всё же несчастные собачата пока остались в своём углу. И очень скоро все жители нашего подъезда негласно поделились на наших противников и защитников. Трудно понять, кого было больше. Кто-то приносил им мясо, наливал свежего молока, стелил на дно чемодана шерстяную подстилку. А кто-то опрокидывал миски и выбрасывал тёплые тряпки.
А щенята, не подозревая о кипящих вокруг них страстях, жили теперь совсем неплохо. С каждым днём они всё чаще и проворнее выбирались из чемодана и скоро стали смешно бегать по коридору, цокая когтями по линолеуму. Раздутые животы делали их похожими на пушистые шарики. Самой шустрой и весёлой была единственная из всех рыжая сучка.
В январе пришли настоящие морозы. Вот уже несколько дней густой неподвижный воздух стоял над городом. Вслед за голубями на чердаки спрятались вороны и галки, бездомные кошки не вылезали из тёплых подвалов. И лишь бойкие, раздувшиеся пушистыми шариками воробьи прыгали под ногами торопливых, закутанных прохожих, воротники, шапки и платки которых на морозе тут же зарастали инеем.
В один из таких дней я взяла собаку и отправилась на большой пустырь, он начинался сразу за широким новым проспектом. В такой мороз даже Недда с её пушистой густой шерстью чувствовала себя не очень уютно. Её чёрная морда тут же покрылась густым инеем, и она начала поднимать то одну, то другую мёрзнущую лапу.
— Эх, а ещё овчарка! — сказала я.
Недда виновато скосила на меня глаза и поглядела назад, видимо вспомнив о тёплом доме.
Поиграв на скрипящем снегу, мы разогрелись и повеселели. Недда нашла большую палку и стала носиться с ней среди кустов ивняка. Солнце постепенно тускнело, опускалось всё ниже, а с другой стороны неба на город ползли лиловые сумерки. Я подумала о несделанных уроках и свернула на узкую тропинку, ведущую назад.
Я не сразу заметила, что Недда куда-то подевалась. Потом я услышала её лай. Она лаяла за кустами и никак не шла ко мне. Рассердившись, с большим желанием задать ей хорошую трёпку, я пошла на её голос, проваливаясь в глубоком снегу и на чём свет стоит кляня её.
Моим глазам предстала странная картина. Под кустом лежал большой ободранный чемодан, перед чемоданом, поднимая мёрзнущие лапы, сидела Недда и лаяла. Увидев меня, она вскочила, суетливо бросилась ко мне, потом к чемодану и снова ко мне, явно предлагая мне проявить к этому предмету интерес.
Я бы и смотреть на чемодан не стала — мало ли ненужных вещей выбрасывают на пустыри, — но тут услышала слабый писк. Да, я не ослышалась. В чемодане кто-то пищал!
Я открыла чемодан. Густой тёплый пар повалил из него, и в нём, среди обрывков каких-то тряпичных лоскутов, я увидела четырёх щенят. Я не могла поверить своим глазам. Безлюдный пустырь, снег, мороз — и живые щенки в чемодане! Кто же принёс их сюда?! Да неужели существуют такие люди?
Я закрыла чемодан, чтобы из него не ушёл весь тёплый воздух, и застыла над ним в каком-то оцепенении. Не оставишь ведь щенков замерзать на морозе. Недда заглядывала мне в глаза, повизгивала и лаяла.
Забыв о морозе, я тащила тяжёлый чемодан, пыталась представить себе, что скажут родители, когда я войду в дом. Но разве я была в чём-то виновата? Разве виновата я в том, что мне, как нарочно, всё время встречаются бескрылые голуби, голодные котята, больные воробьи и потерявшиеся собаки?! Я даже как-то спрашивала об этом своих одноклассников: наверное, не только мне одной они попадаются. Но я ошиблась: им никто не встречается! А мне… Это какой-то рок. Но щенки в чемодане? Даже придумать такое немыслимо.
Всю дорогу домой Недда поскуливала, то и дело подбегала к чемодану, принюхивалась к нему.
Поставив чемодан в углу коридора, возле нашей квартиры, я долго не решалась позвонить в дверь. Пригревшись в тепле, щенки сладко и беззаботно спали. У них вот-вот должны были открыться глазки. Двое из них были очень похожие, чёрно-белые, третий был серый, а четвёртый — рыжий. Чистокровные дворняжки, и никакого намёка на благородную породу.
Но вот я позвонила, и через минуту вся наша семья в полном сборе в таком же оцепенелом состоянии стояла над злополучным чемоданом. Папа просто молчал, мама в отчаянии повторяла: «Как же нам быть?» — мы с сестрёнкой молчали тоже. Соседи слева и соседи справа с любопытством выглядывали в коридор, и скоро весь этаж собрался возле щенков.
Тётя Соня, соседка слева, запричитала:
— Ой, бедненькие, кто же вас так?! Они голодные небось? А не умерли, а?
Соседи слева, Гареевы, долго молчали, и круглые лица их всё больше мрачнели и темнели.
— Неужели вы думаете их здесь держать?! Мы не позволим разводить грязь и вонь! Держите в своей квартире. Тащут всякую гадость! Безобразие! — наконец высказалась тётя Роза, а её муж молчаливо и со скрытой угрозой кивнул.
— Что вы, на мороз, что ли, их? Девочка правильно поступила, не могла же она их бросить! — защищала меня добрая тётя Соня.
— Вот вы и возьмите их, Соня! — заметила тётя Роза.
— Да куда ж, в одну комнату…
— А что происходит, товарищи? — заглядывал через головы очкастый дядька, сосед с девятого этажа.
— Мы будем на вас жаловаться, — уже в два голоса сказали Гареевы и хлопнули своей дверью.
Всё же несчастные собачата пока остались в своём углу. И очень скоро все жители нашего подъезда негласно поделились на наших противников и защитников. Трудно понять, кого было больше. Кто-то приносил им мясо, наливал свежего молока, стелил на дно чемодана шерстяную подстилку. А кто-то опрокидывал миски и выбрасывал тёплые тряпки.
А щенята, не подозревая о кипящих вокруг них страстях, жили теперь совсем неплохо. С каждым днём они всё чаще и проворнее выбирались из чемодана и скоро стали смешно бегать по коридору, цокая когтями по линолеуму. Раздутые животы делали их похожими на пушистые шарики. Самой шустрой и весёлой была единственная из всех рыжая сучка.
 Из школы теперь я бежала сломя голову, чтобы скорее убрать за щенками и покормить их. С Неддой гулять было некогда. Сначала мы боялись, что она может наброситься на щенков, ведь коридор и подъезд она, как всякая нормальная собака, считала своей собственной территорией. Но странно, злая Недда очень быстро привыкла к маленьким незаконным жильцам и только молча отворачивалась от них, когда они скопом бросались к ней. Видно, щенки принимали её за свою маму.
И всё же наши соседи Гареевы исполнили своё обещание. Как-то субботним утром в нашу дверь раздался требовательный звонок. Недда злобно залаяла, почуяв чужих. Когда я открыла дверь, в квартиру вошёл лысоватый мужчина.
— Я по сигналу. Из домоуправления. Это ваши собаки в коридоре?
— Наши, в общем-то.
— А кто-нибудь из старших дома?
— Нет. — Я уныло пожала плечами.
— Собак уберите. А то сами ликвидируем. Вызовем бригаду, и их увезут куда следует.
— А куда следует? — спросила сестрёнка.
— На мыло, девочка.
Лысоватый развёл руками, но Недда, следящая за ним из своего угла, предупреждающе зарычала.
— Попридержите! Развели чёрт знает что! Моё дело предупредить.
— Но ведь зима, щенки погибнут, — сказала сестрёнка.
— Что ты ему объясняешь! — вздохнула я.
Я вышла в коридор вслед за лысоватым. Щенки, смирно сидевшие в углу, вылезли из чемодана и стали весело тыкаться мне в ноги тупыми мордашками.
Тут меня осенило. Я вспомнила, что подвал нашего дома всегда открыт. Я мигом спустилась вниз и осталась довольна своим осмотром. Там было сухо и довольно тепло. Только очень темно.
Так щенки из чемодана стали жителями подземелья. Зато по вечерам мы выгуливали их во дворе. Недда привыкла к ним, и мы не опасались теперь, что она покусает щенят. Она добродушно отвечала на их заигрывания и даже охраняла их. «Может, в ней проснулись материнские чувства, — думала я, — ведь своих щенков у неё ещё не было».
Однажды поздним вечером в дверь позвонили. На пороге стоял высокий мужчина в тулупе. Я узнала его: это был слесарь из соседнего дома.
— В подвале лопнули трубы, заливает. Я видел, там были щенки. Ваши, что ли?
Похватав с вешалки что попало, мы с сестрёнкой бросились вниз по лестнице.
— Эй, осторожнее, вода там горячая! — закричал нам слесарь, который тоже, оказывается, пошёл с нами.
В тусклом свете фонарика дымилась белёсым паром залившая подвал вода, в полутьме казавшаяся чернильной. Из дальнего угла раздалось жалобное поскуливание, и мы разглядели наших щенят, которые сидели, тесно прижимаясь друг к другу, на случайно оказавшейся здесь бетонной плите. К ней уже подступала вода.
— Да стойте, девчонки, у меня сапоги! — сказал слесарь и смело пошлёпал по воде. Он взял сразу всех щенят своими большими руками и вынес из подвала.
И что за судьба была у этих псов?! То их нужно было спасать от леденящего холода, а теперь вот — от горячей воды. Что было бы с ними наутро, если бы не этот человек из соседнего дома?!
Щенки снова оказались в коридоре.
Так прошёл месяц. Скоро самого красивого кобелька взял одноклассник сестрёнки. Мы так полюбили всех щенят, что расставаться было жалко, хотя мы понимали, что долго так продолжаться не может. Уже многие знали, что у нас живут щенки. Дети кормили их и играли с ними, а некоторые бабки сидели на скамейке возле подъезда и возмущались тем, что мы развели псарню. Тётя Роза горячо поддакивала им. А тётя Соня отдала для щенят старый поролоновый матрац, часто приносила супы для щенков, и в ней мы чувствовали своего горячего единомышленника. Как, впрочем, и в своих родителях, которые тоже полюбили щенков, хотя и не говорили об этом.
А потом случилась беда. Самая шустрая и весёлая рыженькая сучка выбежала на скользкую дорогу, машина не сумела затормозить и наехала на неё. Мы с сестрёнкой плакали, а Недда жалобно поскуливала в ответ.
Другого чёрного щенка взял тот самый слесарь из соседнего дома. Он поселил его у себя на работе, в тёплом подвальчике, и теперь мы иногда навещали своего воспитанника.
Последнего серого щенка, который остался, за его неистово закрученный пушистый хвостик мы назвали Бубликом. В отличие от его симпатичных братцев, серому Бублику судьба никак не хотела улыбнуться. Оставшись один, он часто плакал, наверное, ему было тоскливо и скучно. Нам было очень жалко Бублика, и мы старались почаще играть с ним. Вскоре дошло до того, что Бублик, пока родители были на работе, приходил к нам в гости, бегал по квартире, играл с Неддой и был совершенно счастлив. У нас сердце разрывалось, когда приходилось выпроваживать Бублика обратно за двери. И у меня зародилась коварная мысль: узаконить жизнь Бублика в стенах нашей квартиры. Сестрёнка, конечно, поддержала меня. Маму можно было уговорить, только вот как быть с папой?
Но видимо, Бублик родился под счастливой звездой. Однажды папа пришёл домой радостный и сообщил, что Бублика берёт его знакомый театральный режиссёр.
— Как, прямо в квартиру? — удивились мы.
Теперь нашему Бублику предстояло стать аристократом. Перед приходом режиссёра мы вымыли щенка шампунем. Мягкая пушистая шёрстка его сразу же заблестела.
— А что, Бублик у нас настоящий красавец! — улыбнулась мама.
Недда обнюхала его и высунула в улыбке язык. Она была согласна с мамой.
После того как унесли Бублика, наверное, нужно было с облегчением вздохнуть: эпопея со злополучным чемоданом наконец окончилась. Но какая-то грусть не покидала нас. Ведь, кроме забот и грязи, было ещё что-то — что-то тёплое и светлое, ушедшее теперь из нашей жизни вместе со щенками из чемодана. Они нуждались в нашем участии и нашей защите, но ведь и мы, не отдавая в этом себе отчёта, были благодарны им за их любовь и преданность нам.
Прошёл, наверное, год с тех пор, и мы как-то зашли к режиссёру посмотреть на Бублика. Нас встретил очень ладный пушистый пёс. Теперь его звали Антракт. Он встретил нас с весёлой снисходительностью уверенной в себе и любимой хозяйской собаки. Но мы не были на него в обиде за его забывчивость.
Длинноногий, с короткой шерстью Черныш, живущий у нашего слесаря, часто появлялся во дворе. Он всегда узнавал меня и Недду, которая тут же начинала играть с ним в догонялки. А когда мы пришли навестить самого первого щенка, из-под крыльца раздался злобный лай. Третий брат Черныша и Бублика-Антракта вёл себя как настоящая сторожевая собака.
У каждого из них была своя судьба, и нам хотелось верить, по-своему и по-собачьи счастливая…
Теперь, когда прошло много лет, вспоминая об этой истории, я думаю: «А что, если бы мне сейчас встретились эти щенки, принесла бы я их домой?» Да, наверное, принесла бы, отвечаю я сама себе. Но странно, с тех пор как я выросла, мне уже не встречаются раненые птицы и потерявшиеся щенки. Быть может, мы, взрослые, занятые своими делами и вечно куда-то спешащие, просто разучились замечать многое, что происходит вокруг нас?
Из школы теперь я бежала сломя голову, чтобы скорее убрать за щенками и покормить их. С Неддой гулять было некогда. Сначала мы боялись, что она может наброситься на щенков, ведь коридор и подъезд она, как всякая нормальная собака, считала своей собственной территорией. Но странно, злая Недда очень быстро привыкла к маленьким незаконным жильцам и только молча отворачивалась от них, когда они скопом бросались к ней. Видно, щенки принимали её за свою маму.
И всё же наши соседи Гареевы исполнили своё обещание. Как-то субботним утром в нашу дверь раздался требовательный звонок. Недда злобно залаяла, почуяв чужих. Когда я открыла дверь, в квартиру вошёл лысоватый мужчина.
— Я по сигналу. Из домоуправления. Это ваши собаки в коридоре?
— Наши, в общем-то.
— А кто-нибудь из старших дома?
— Нет. — Я уныло пожала плечами.
— Собак уберите. А то сами ликвидируем. Вызовем бригаду, и их увезут куда следует.
— А куда следует? — спросила сестрёнка.
— На мыло, девочка.
Лысоватый развёл руками, но Недда, следящая за ним из своего угла, предупреждающе зарычала.
— Попридержите! Развели чёрт знает что! Моё дело предупредить.
— Но ведь зима, щенки погибнут, — сказала сестрёнка.
— Что ты ему объясняешь! — вздохнула я.
Я вышла в коридор вслед за лысоватым. Щенки, смирно сидевшие в углу, вылезли из чемодана и стали весело тыкаться мне в ноги тупыми мордашками.
Тут меня осенило. Я вспомнила, что подвал нашего дома всегда открыт. Я мигом спустилась вниз и осталась довольна своим осмотром. Там было сухо и довольно тепло. Только очень темно.
Так щенки из чемодана стали жителями подземелья. Зато по вечерам мы выгуливали их во дворе. Недда привыкла к ним, и мы не опасались теперь, что она покусает щенят. Она добродушно отвечала на их заигрывания и даже охраняла их. «Может, в ней проснулись материнские чувства, — думала я, — ведь своих щенков у неё ещё не было».
Однажды поздним вечером в дверь позвонили. На пороге стоял высокий мужчина в тулупе. Я узнала его: это был слесарь из соседнего дома.
— В подвале лопнули трубы, заливает. Я видел, там были щенки. Ваши, что ли?
Похватав с вешалки что попало, мы с сестрёнкой бросились вниз по лестнице.
— Эй, осторожнее, вода там горячая! — закричал нам слесарь, который тоже, оказывается, пошёл с нами.
В тусклом свете фонарика дымилась белёсым паром залившая подвал вода, в полутьме казавшаяся чернильной. Из дальнего угла раздалось жалобное поскуливание, и мы разглядели наших щенят, которые сидели, тесно прижимаясь друг к другу, на случайно оказавшейся здесь бетонной плите. К ней уже подступала вода.
— Да стойте, девчонки, у меня сапоги! — сказал слесарь и смело пошлёпал по воде. Он взял сразу всех щенят своими большими руками и вынес из подвала.
И что за судьба была у этих псов?! То их нужно было спасать от леденящего холода, а теперь вот — от горячей воды. Что было бы с ними наутро, если бы не этот человек из соседнего дома?!
Щенки снова оказались в коридоре.
Так прошёл месяц. Скоро самого красивого кобелька взял одноклассник сестрёнки. Мы так полюбили всех щенят, что расставаться было жалко, хотя мы понимали, что долго так продолжаться не может. Уже многие знали, что у нас живут щенки. Дети кормили их и играли с ними, а некоторые бабки сидели на скамейке возле подъезда и возмущались тем, что мы развели псарню. Тётя Роза горячо поддакивала им. А тётя Соня отдала для щенят старый поролоновый матрац, часто приносила супы для щенков, и в ней мы чувствовали своего горячего единомышленника. Как, впрочем, и в своих родителях, которые тоже полюбили щенков, хотя и не говорили об этом.
А потом случилась беда. Самая шустрая и весёлая рыженькая сучка выбежала на скользкую дорогу, машина не сумела затормозить и наехала на неё. Мы с сестрёнкой плакали, а Недда жалобно поскуливала в ответ.
Другого чёрного щенка взял тот самый слесарь из соседнего дома. Он поселил его у себя на работе, в тёплом подвальчике, и теперь мы иногда навещали своего воспитанника.
Последнего серого щенка, который остался, за его неистово закрученный пушистый хвостик мы назвали Бубликом. В отличие от его симпатичных братцев, серому Бублику судьба никак не хотела улыбнуться. Оставшись один, он часто плакал, наверное, ему было тоскливо и скучно. Нам было очень жалко Бублика, и мы старались почаще играть с ним. Вскоре дошло до того, что Бублик, пока родители были на работе, приходил к нам в гости, бегал по квартире, играл с Неддой и был совершенно счастлив. У нас сердце разрывалось, когда приходилось выпроваживать Бублика обратно за двери. И у меня зародилась коварная мысль: узаконить жизнь Бублика в стенах нашей квартиры. Сестрёнка, конечно, поддержала меня. Маму можно было уговорить, только вот как быть с папой?
Но видимо, Бублик родился под счастливой звездой. Однажды папа пришёл домой радостный и сообщил, что Бублика берёт его знакомый театральный режиссёр.
— Как, прямо в квартиру? — удивились мы.
Теперь нашему Бублику предстояло стать аристократом. Перед приходом режиссёра мы вымыли щенка шампунем. Мягкая пушистая шёрстка его сразу же заблестела.
— А что, Бублик у нас настоящий красавец! — улыбнулась мама.
Недда обнюхала его и высунула в улыбке язык. Она была согласна с мамой.
После того как унесли Бублика, наверное, нужно было с облегчением вздохнуть: эпопея со злополучным чемоданом наконец окончилась. Но какая-то грусть не покидала нас. Ведь, кроме забот и грязи, было ещё что-то — что-то тёплое и светлое, ушедшее теперь из нашей жизни вместе со щенками из чемодана. Они нуждались в нашем участии и нашей защите, но ведь и мы, не отдавая в этом себе отчёта, были благодарны им за их любовь и преданность нам.
Прошёл, наверное, год с тех пор, и мы как-то зашли к режиссёру посмотреть на Бублика. Нас встретил очень ладный пушистый пёс. Теперь его звали Антракт. Он встретил нас с весёлой снисходительностью уверенной в себе и любимой хозяйской собаки. Но мы не были на него в обиде за его забывчивость.
Длинноногий, с короткой шерстью Черныш, живущий у нашего слесаря, часто появлялся во дворе. Он всегда узнавал меня и Недду, которая тут же начинала играть с ним в догонялки. А когда мы пришли навестить самого первого щенка, из-под крыльца раздался злобный лай. Третий брат Черныша и Бублика-Антракта вёл себя как настоящая сторожевая собака.
У каждого из них была своя судьба, и нам хотелось верить, по-своему и по-собачьи счастливая…
Теперь, когда прошло много лет, вспоминая об этой истории, я думаю: «А что, если бы мне сейчас встретились эти щенки, принесла бы я их домой?» Да, наверное, принесла бы, отвечаю я сама себе. Но странно, с тех пор как я выросла, мне уже не встречаются раненые птицы и потерявшиеся щенки. Быть может, мы, взрослые, занятые своими делами и вечно куда-то спешащие, просто разучились замечать многое, что происходит вокруг нас?
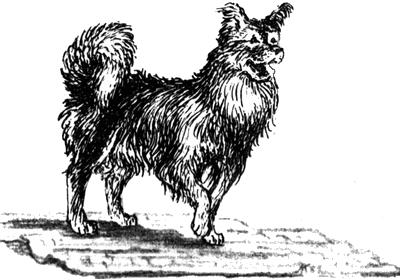
ЗОБАРА
 Как-то мама рассказала мне, что, когда я была совсем маленькая, только-только научилась ходить, со мной произошёл случай, который, как ей теперь кажется, и определил в дальнейшем моё более чем неравнодушное отношение к лошадям.
Однажды летним вечером, когда светила яркая луна, мама вышла со мной за ворота нашего дома проводить гостей. У забора стояла запряжённая в телегу лошадь — наш сосед работал возчиком. И когда мой взгляд случайно упал на землю, я увидела огромную, чёрную, искривлённую неровной дорогой и потому уродливую тень лошади. Я в ужасе схватилась за маму руками и закричала от страха. Я ревела так долго и отчаянно, что мама совсем перепугалась, решив, что я могу сделаться заикой. И уж в чём она была абсолютно уверена — это в том, что я буду бояться и не любить лошадей.
Я не сделалась заикой. И чем старше становилась, тем более сильным становился мой интерес к лошадям. Я рисовала только лошадей. Я вырезала лошадей из всех журналов и даже книг. У меня была большая рыжая лошадь из папье-маше на колёсиках и множество других лошадок — резиновых, пластмассовых и даже тряпичных. Я бегала за каждой городской лошадью, которых было ещё тогда немало. И самой страстной мечтой моего детства была мечта сесть на лошадь верхом.
В девятом классе я сдружилась со своей одноклассницей Танькой Зотовой. Худая, остроносая, с короткими русыми волосами, она была одной из наших классных «знаменитостей». Танька была отчаянным собаководом, её овчарка Линда вот уже который год завоёвывала звание чемпионки на соревнованиях по служебному собаководству, к тому же была какой-то сверхпородной и за все свои достоинства увешана медалями. У меня тоже была овчарка, отнюдь не выдающаяся, но это не помешало нам с Танькой довольно тесно сойтись на почве любви к собакам и животным вообще.
Я считала в душе, что Линда очень похожа на свою хозяйку — такая же тощая, некрупная, вечно куда-то рвущаяся. И, сделав такой вывод, я взглянула со стороны на собственную собаку, пытаясь отыскать в ней черты сходства с собой. Увы, я была невысокого мнения о некоторых качествах моей собаки…
Раньше Танька говорила, что хочет стать дрессировщицей хищников и будет после восьмого поступать в цирковое училище. Но потом раздумала и пошла в девятый.
Через несколько дней после начала занятий Танька сказала мне:
— Всё, теперь решено. Я буду наездницей!
— Что?! — поразилась я. Понятно, что сердце у меня ёкнуло и во рту стало сухо.
— Ну да, а что? Получу аттестат и поеду. В Воронежской области есть училище. Я узнавала. Да, слушай! Пошли со мной на ипподром, а то мне одной скучно. Пойдёшь?
— Спрашиваешь! — воскликнула я.
Мы не любили откладывать дела на завтра и сразу же после уроков поехали на ипподром. В троллейбусе, задумчиво глядя на проплывающие за окном улицы, Танька сказала:
— А Линде теперь, видимо, придётся поскучать!
Я никогда не бывала на ипподроме. Он представлялся мне огромным, шумным и сверкающим. С грохотом качалок, звонким ржанием лошадей, гортанными криками жокеев… И когда мы вошли в молчаливый пустынный двор за низким забором, мне показалось, что мы ошиблись, забрели не в те ворота. Гнедая лошадь бродила по двору, шумно вздыхая и подбирая разбросанные клочки сена. Изредка она била копытом о землю, вспугивая стайку Воробьёв, облепивших большую кучу навоза.
Угрюмо поблёскивали маленькие оконца длинных конюшен. Танька с трудом открыла железную дверь, и мы вошли в узкий длинный коридор. По обеим сторонам его бесконечными рядами тянулись денники, и я не сразу разглядела в них лошадей. Воздух стоял тяжёлый, прелый.
Откуда-то из глубины к нам шёл человек. Он оказался симпатичным, высоким парнем. Поигрывая уздечкой, спросил:
— Вам кого, девушки?
— Нам бы главного в этой конюшне… — торопливо начала Танька. — Мы хотим за лошадьми ухаживать. Мы слышали, конюхов не хватает… Ну и ездить на них тоже… Скажите, как, это можно?
— Ну, главный, положим, это я, — ответил парень и посмотрел на меня.
— Нам бы хотелось научиться верховой езде, — улыбнулась я, почувствовав, что нравлюсь ему.
— Но… верховых лошадей у нас нет. Только рысаки.
Испугавшись, что Танька откажется, я опередила её:
— Хорошо, пусть рысаки, мы согласны!
Танька кивнула.
— Ладно, девушки. Подумаем. Меня зовут Станислав. Можно просто Стас, — сказал он, обращаясь ко мне. — Пойдёмте! — кивнул он и повёл нас вдоль денников.
Лошади — гнедые, рыжие, вороные — шумно вздыхали, настораживали уши и фыркали, поблёскивая глазами.
— Есть тут как раз две лошади, — сказал Стас. — Да вот одна, Глория!
Стас открыл дверцу и вошёл в денник. Тёмно-гнедая стройная кобылица с белой полоской на лбу доверчиво потянулась к нему тонкой сухой мордой.
— Эту я предлагаю вам! — сказал Стас, обращаясь только ко мне.
— Её возьму я! — вдруг заявила Танька и тоже вошла в денник.
Глория недоверчиво отшатнулась от её руки, запрядала ушами.
— Но-но, маленькая, хорошая, — сказала Танька и положила руку на её холку.
Я не стала спорить с ней.
Стас пожал плечами, вышел в проход и подошёл к соседнему деннику.
— Зобара!
Я увидела высокую рыжую лошадь с маленькой звёздочкой на лбу. Спутанный хвост, грязная, тусклая шерсть Зобары говорили о том, что её не очень-то балуют вниманием.
— За ней никто не смотрит? — удивлённо спросила я.
— Она прекрасных кровей, но у неё дурной характер. Очень нервная и недоверчивая. С ней работать надо, нашим жокеям лень браться. К тому же внешность у неё невыигрышная.
И, словно подтверждая его слова, Зобара покосилась на нас, с храпом втянула воздух.
— А мне она очень нравится, — сказала я.
Она мне не то чтобы понравилась, просто мне вдруг стало жалко её, ведь любому живому существу плохо, когда его никто не любит. Тем более лошади… Но об этом я не сказала ни Стасу, ни Таньке.
С этого дня наша с Танькой жизнь пошла в каком-то ином, новом измерении.
Кроме нас, на ипподром приходило немало таких же, как мы, девчонок и мальчишек. Мы очень скоро сдружились с ними, знали, у кого какая лошадь и кто как занимается. Оказалось, что не только оседлать, но даже почистить лошадь скребницей — это целое искусство. И мы с энтузиазмом бросились постигать все премудрости ипподромной жизни. Стас часто бывал с нами, терпеливо объяснял непонятное, и однажды, когда мы со Стасом остались одни в деннике, он вдруг прервал свою поучительную речь и так посмотрел на меня, что я поняла: я очень, очень нравлюсь Стасу. С одной стороны, мне льстило, что я нравлюсь такому взрослому и красивому мужчине, но с другой — гораздо важнее казалось мне тогда завоевать любовь Зобары, нежели Стаса…
И я поразилась, когда Танька призналась мне, что она влюблена в Стаса.
А Зобара скоро преобразилась, шерсть её обрела чистый рыже-золотистый цвет и глянцевитый блеск. Зобара как-то сразу признала меня. А может, она просто стосковалась по человеческой ласке. И хотя иногда ей приходило в голову выказывать свой неукротимый, упрямый норов, она всё же хорошо слушалась меня, и с каждым днём в общении с ней я становилась всё увереннее.
Как-то мама рассказала мне, что, когда я была совсем маленькая, только-только научилась ходить, со мной произошёл случай, который, как ей теперь кажется, и определил в дальнейшем моё более чем неравнодушное отношение к лошадям.
Однажды летним вечером, когда светила яркая луна, мама вышла со мной за ворота нашего дома проводить гостей. У забора стояла запряжённая в телегу лошадь — наш сосед работал возчиком. И когда мой взгляд случайно упал на землю, я увидела огромную, чёрную, искривлённую неровной дорогой и потому уродливую тень лошади. Я в ужасе схватилась за маму руками и закричала от страха. Я ревела так долго и отчаянно, что мама совсем перепугалась, решив, что я могу сделаться заикой. И уж в чём она была абсолютно уверена — это в том, что я буду бояться и не любить лошадей.
Я не сделалась заикой. И чем старше становилась, тем более сильным становился мой интерес к лошадям. Я рисовала только лошадей. Я вырезала лошадей из всех журналов и даже книг. У меня была большая рыжая лошадь из папье-маше на колёсиках и множество других лошадок — резиновых, пластмассовых и даже тряпичных. Я бегала за каждой городской лошадью, которых было ещё тогда немало. И самой страстной мечтой моего детства была мечта сесть на лошадь верхом.
В девятом классе я сдружилась со своей одноклассницей Танькой Зотовой. Худая, остроносая, с короткими русыми волосами, она была одной из наших классных «знаменитостей». Танька была отчаянным собаководом, её овчарка Линда вот уже который год завоёвывала звание чемпионки на соревнованиях по служебному собаководству, к тому же была какой-то сверхпородной и за все свои достоинства увешана медалями. У меня тоже была овчарка, отнюдь не выдающаяся, но это не помешало нам с Танькой довольно тесно сойтись на почве любви к собакам и животным вообще.
Я считала в душе, что Линда очень похожа на свою хозяйку — такая же тощая, некрупная, вечно куда-то рвущаяся. И, сделав такой вывод, я взглянула со стороны на собственную собаку, пытаясь отыскать в ней черты сходства с собой. Увы, я была невысокого мнения о некоторых качествах моей собаки…
Раньше Танька говорила, что хочет стать дрессировщицей хищников и будет после восьмого поступать в цирковое училище. Но потом раздумала и пошла в девятый.
Через несколько дней после начала занятий Танька сказала мне:
— Всё, теперь решено. Я буду наездницей!
— Что?! — поразилась я. Понятно, что сердце у меня ёкнуло и во рту стало сухо.
— Ну да, а что? Получу аттестат и поеду. В Воронежской области есть училище. Я узнавала. Да, слушай! Пошли со мной на ипподром, а то мне одной скучно. Пойдёшь?
— Спрашиваешь! — воскликнула я.
Мы не любили откладывать дела на завтра и сразу же после уроков поехали на ипподром. В троллейбусе, задумчиво глядя на проплывающие за окном улицы, Танька сказала:
— А Линде теперь, видимо, придётся поскучать!
Я никогда не бывала на ипподроме. Он представлялся мне огромным, шумным и сверкающим. С грохотом качалок, звонким ржанием лошадей, гортанными криками жокеев… И когда мы вошли в молчаливый пустынный двор за низким забором, мне показалось, что мы ошиблись, забрели не в те ворота. Гнедая лошадь бродила по двору, шумно вздыхая и подбирая разбросанные клочки сена. Изредка она била копытом о землю, вспугивая стайку Воробьёв, облепивших большую кучу навоза.
Угрюмо поблёскивали маленькие оконца длинных конюшен. Танька с трудом открыла железную дверь, и мы вошли в узкий длинный коридор. По обеим сторонам его бесконечными рядами тянулись денники, и я не сразу разглядела в них лошадей. Воздух стоял тяжёлый, прелый.
Откуда-то из глубины к нам шёл человек. Он оказался симпатичным, высоким парнем. Поигрывая уздечкой, спросил:
— Вам кого, девушки?
— Нам бы главного в этой конюшне… — торопливо начала Танька. — Мы хотим за лошадьми ухаживать. Мы слышали, конюхов не хватает… Ну и ездить на них тоже… Скажите, как, это можно?
— Ну, главный, положим, это я, — ответил парень и посмотрел на меня.
— Нам бы хотелось научиться верховой езде, — улыбнулась я, почувствовав, что нравлюсь ему.
— Но… верховых лошадей у нас нет. Только рысаки.
Испугавшись, что Танька откажется, я опередила её:
— Хорошо, пусть рысаки, мы согласны!
Танька кивнула.
— Ладно, девушки. Подумаем. Меня зовут Станислав. Можно просто Стас, — сказал он, обращаясь ко мне. — Пойдёмте! — кивнул он и повёл нас вдоль денников.
Лошади — гнедые, рыжие, вороные — шумно вздыхали, настораживали уши и фыркали, поблёскивая глазами.
— Есть тут как раз две лошади, — сказал Стас. — Да вот одна, Глория!
Стас открыл дверцу и вошёл в денник. Тёмно-гнедая стройная кобылица с белой полоской на лбу доверчиво потянулась к нему тонкой сухой мордой.
— Эту я предлагаю вам! — сказал Стас, обращаясь только ко мне.
— Её возьму я! — вдруг заявила Танька и тоже вошла в денник.
Глория недоверчиво отшатнулась от её руки, запрядала ушами.
— Но-но, маленькая, хорошая, — сказала Танька и положила руку на её холку.
Я не стала спорить с ней.
Стас пожал плечами, вышел в проход и подошёл к соседнему деннику.
— Зобара!
Я увидела высокую рыжую лошадь с маленькой звёздочкой на лбу. Спутанный хвост, грязная, тусклая шерсть Зобары говорили о том, что её не очень-то балуют вниманием.
— За ней никто не смотрит? — удивлённо спросила я.
— Она прекрасных кровей, но у неё дурной характер. Очень нервная и недоверчивая. С ней работать надо, нашим жокеям лень браться. К тому же внешность у неё невыигрышная.
И, словно подтверждая его слова, Зобара покосилась на нас, с храпом втянула воздух.
— А мне она очень нравится, — сказала я.
Она мне не то чтобы понравилась, просто мне вдруг стало жалко её, ведь любому живому существу плохо, когда его никто не любит. Тем более лошади… Но об этом я не сказала ни Стасу, ни Таньке.
С этого дня наша с Танькой жизнь пошла в каком-то ином, новом измерении.
Кроме нас, на ипподром приходило немало таких же, как мы, девчонок и мальчишек. Мы очень скоро сдружились с ними, знали, у кого какая лошадь и кто как занимается. Оказалось, что не только оседлать, но даже почистить лошадь скребницей — это целое искусство. И мы с энтузиазмом бросились постигать все премудрости ипподромной жизни. Стас часто бывал с нами, терпеливо объяснял непонятное, и однажды, когда мы со Стасом остались одни в деннике, он вдруг прервал свою поучительную речь и так посмотрел на меня, что я поняла: я очень, очень нравлюсь Стасу. С одной стороны, мне льстило, что я нравлюсь такому взрослому и красивому мужчине, но с другой — гораздо важнее казалось мне тогда завоевать любовь Зобары, нежели Стаса…
И я поразилась, когда Танька призналась мне, что она влюблена в Стаса.
А Зобара скоро преобразилась, шерсть её обрела чистый рыже-золотистый цвет и глянцевитый блеск. Зобара как-то сразу признала меня. А может, она просто стосковалась по человеческой ласке. И хотя иногда ей приходило в голову выказывать свой неукротимый, упрямый норов, она всё же хорошо слушалась меня, и с каждым днём в общении с ней я становилась всё увереннее.
 Мы много занимались проминкой. Сев на лошадей верхом, ходили и ходили кругами, заставляя их идти правильной рысью, как и положено рысакам. Танька начала запрягать Глорию в качалку. Зобара даже близко не подпускала качалку: дико выкатывала глаза, прижимала уши и начинала взбрыкивать задними ногами. Я была почти в отчаянии. А тут ещё со Стасом состоялся тяжёлый разговор, где я сказала ему, что думаю не о нём, а о Зобаре. Он разозлился, обозвал меня дурой и стал со мной нетерпимо мрачен, подчёркнуто отдавая своё внимание Таньке и другим девчонкам. Танька была на седьмом небе от счастья.
Зобара шла тротом[1]. Иногда, чувствуя мою не совсем уверенную руку, она резко наклоняла голову вниз, пытаясь вырвать поводья. Я подпрыгивала на её костлявой, мускулистой спине, ощущая, как никогда, её буйную, упрямую силу.
Давно уже я чувствовала: Зобаре почему-то трудно ходить рысью. Вот и сейчас Зобара вдруг сбилась и поскакала галопом.
— Сто-о-й! — крикнул Стас, сразу заметив мою ошибку.
Зобара не слушалась. Мелькнуло испуганное, злое лицо Стаса, ворота, куда я попыталась повернуть лошадь. В ушах стоял дробный топот и оглушительный треск гравия. Круг, второй, третий…
«Только бы не упасть!» — думала я.
Слабели руки. Зобара резко вскинула задние ноги, и я полетела вниз.
Мы много занимались проминкой. Сев на лошадей верхом, ходили и ходили кругами, заставляя их идти правильной рысью, как и положено рысакам. Танька начала запрягать Глорию в качалку. Зобара даже близко не подпускала качалку: дико выкатывала глаза, прижимала уши и начинала взбрыкивать задними ногами. Я была почти в отчаянии. А тут ещё со Стасом состоялся тяжёлый разговор, где я сказала ему, что думаю не о нём, а о Зобаре. Он разозлился, обозвал меня дурой и стал со мной нетерпимо мрачен, подчёркнуто отдавая своё внимание Таньке и другим девчонкам. Танька была на седьмом небе от счастья.
Зобара шла тротом[1]. Иногда, чувствуя мою не совсем уверенную руку, она резко наклоняла голову вниз, пытаясь вырвать поводья. Я подпрыгивала на её костлявой, мускулистой спине, ощущая, как никогда, её буйную, упрямую силу.
Давно уже я чувствовала: Зобаре почему-то трудно ходить рысью. Вот и сейчас Зобара вдруг сбилась и поскакала галопом.
— Сто-о-й! — крикнул Стас, сразу заметив мою ошибку.
Зобара не слушалась. Мелькнуло испуганное, злое лицо Стаса, ворота, куда я попыталась повернуть лошадь. В ушах стоял дробный топот и оглушительный треск гравия. Круг, второй, третий…
«Только бы не упасть!» — думала я.
Слабели руки. Зобара резко вскинула задние ноги, и я полетела вниз.
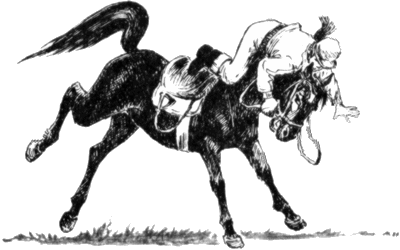 Потом я долго водила по кругу потемневшую от пота лошадь. Зобара, словно извиняясь, мягко трогала губами моё плечо и жарко дышала в затылок.
Подошёл Стас:
— Ты что, хочешь лошадь загнать?! Учти, она девять тысяч стоит! Не умеешь, так не берись! Вон посмотри на Таньку!
Я обернулась. Глория, запряжённая в качалку, шла рысью. Шла ровно, красиво.
— Мне кажется, у Зобары что-то с ногами. Ей трудно ходить рысью. Поэтому она и от качалки шарахается…
— Больно много ты знаешь, — усмехнулся Стас. — Ладно, посмотрим.
Через несколько дней он сказал мне:
— У неё врождённый дефект. Сближенные бабки, и ей вообще неудобно ходить рысью. Только галопом. Так что… фью-у! — Стас сделал неопределённое движение.
— Что «фью-у»? — не поняла я.
— Главный зоотехник уже подписал бумагу.
Мне казалось, что Стас устроил мне пытку.
— Её списали. На ипподроме таких не держат. Теперь продадим какому-нибудь колхозу.
— Не может быть! Ты что, Стас?!
— А что ты на меня кричишь? Это вон… аллах виноват, а не я.
— Да я ничего не говорю, я просто… — Я почувствовала, что тяжёлые слёзы застилают пеленой глаза.
В тот день Зобара встретила меня нетерпеливо и радостно. Пока я отпирала денник, она пыталась протиснуть голову сквозь прутья решётки, била копытом в дверь и звонко всхрапывала. Я до блеска вычистила короткую рыжую шерсть, расчесала жёсткий, негустой хвост.
Вывела Зобару из денника, выехала на беговую дорожку и отпустила поводья. Зобара, послушная каждому моему движению, пошла хорошей, крупной рысью, но быстро сбилась и поскакала.
Как пусто, как тихо на ипподроме, а в воскресенье ударит колокол и вперёд рванутся лошади и помчатся ровной, прекрасной рысью… Побежит красавица Глория, побежит Обрыв, серая Бланка, вороная Ягода, знаменитый жеребец Аласар… Зобара не побежит… Ей ли, с дефектом ног, такой некрасивой, тягаться с ними!
Мою Зобару увезут в далёкую деревню и заставят возить неподъёмные телеги по непролазной грязи…
Я ощущала лишь жалкую свою беспомощность и вину перед Зобарой…
Я открыла засов и вошла в пустой денник. И пустым показался мир, пустой показалась моя собственная жизнь. Я прислонилась к стене и закрыла глаза. И всё же я не верила, что Зобары нет! Вот сейчас я открою глаза и увижу рядом с собой её сухую голову с большими умными глазами… Вот сейчас Зобара мягко ткнётся мне в плечо или ласково и игриво толкнёт меня…
Скребница и щётка лежали на месте. В них запуталась рыжая короткая шерсть Зобары.
Пришёл конюх Гумер, кряхтя, поставил стремянку и стал прибивать над дверью новую латунную табличку.
Я прочла:
«Пальмира, вор., 1975 г., от Радия и Мальвы, кл. Элита».
Под ногами, в навозе, валялась помятая табличка с надписью: «Зобара». Я подняла её, очистила от грязи, положила в сумку.
— Эй, кызым! — окликнул меня Гумер абый. — Тут вон подковка валяется. Не твоей ли лошади?
— Рахмат[2], Гумер абый, — благодарно сказала я. Взяла в руки лёгкую Зобарину подковку. На счастье. А у Зобары будут другие подковы, такие, что ноги не поднимет…
Я пошла к выходу. Больше мне нечего было делать здесь. Я даже не оглянулась. Но у ворог меня догнала Танька:
— Ты что, уходишь?! Постой! Плачешь? Жалко, конечно. Но ты же с ней мучилась!
— Не надо, Тань.
— Что не надо? Зайди к Стасу, он хочет, чтобы новенькая, Пальмира, была у тебя. Вот чёткая лошадка! Ты не видела её? Все наши балдеют…
— Да не надо, Тань! Куда хоть Зобару отправили, не знаешь? — спросила я.
— В Арский район куда-то. Постой, ты что, уходишь?!
Я остановилась.
— Да, ухожу. Передай Стасу мой привет и спасибо. Я не хочу другой лошади.
— Ну и дурочка! — удивилась Танька и пожала плечами.
На ипподром я больше не пришла. Да и в школе мы с Танькой почти уже не общались. Никакой наездницей Танька не стала, а после школы устроилась приёмщицей в химчистку.
…В сентябре на втором курсе университета насотправили в колхоз на картошку. Группа у нас была дружная, и нельзя сказать, чтобы нам не нравилась «картошка». И потому мы в бодром и боевом настроении приехали в деревню Каенсар. Вечером после первого же рабочего дня я пошла искать колхозную конюшню: не могла же я упустить случая покататься верхом!
Сначала я попала на молочную ферму, потом на свинокомплекс и наконец разыскала конюшню.
Конюха в этот час не было видно. Несколько лошадей бродило в загоне — это были кобылы с жеребятами. Я остановилась, крикнула:
— Эй! Есть здесь кто-нибудь?
Но в ответ послышалось лишь ржание лошади. И я увидела, как одна лошадь подошла к забору и, пытаясь просунуть голову между брусьями, начала жадно и шумно нюхать воздух. Я тоже подошла к ней, сказала ласково:
— Ну что ты, лошадка?
И вдруг… я увидела знакомую звёздочку на лбу, знакомые глаза… Это была Зобара!
— Зобара?! Не может быть!
Она ответила мне настойчивым тихим ржанием. В один миг я перемахнула загородку, Зобара, моя Зобара ласково и радостно тормошила моё плечо, толкала меня тяжёлой головой, и её прекрасные тёмно-фиолетовые глаза светились радостью. Она первая вспомнила и узнала меня, она была жива и здорова, и это казалось чудом! «Ну конечно, — думала я, — мы же как раз в Арском районе! Как мне не пришло в голову?!»
Я посмотрела на неё. Рыжая шерсть стала очень густой. Зобара разве что немного раздалась в груди, была теперь не такой худой и жилистой, как прежде, но зато стала красивой: в ней появилась благородная и мощная стать, теперь она не казалась слишком высокой, а была хорошей, крепкой лошадкой.
А рядом с Зобарой топтался тёмно-гнедой жеребёнок с белой полоской на лбу.
Я чувствовала, что меня покидает тот горестный осадок, то чувство потери, которые были со мной всё это время, с того дня, когда я в последний раз пришла на ипподром…
Я не сразу услышала, что мне кричат:
— Что вы тут делаете, девушка?!
Невысокий черноглазый парень с седлом в руках смотрел на меня с удивлением. Я поняла, что это конюх, и рассказала ему всё.
— Вот это да! — воскликнул он. — Только её не Зобара теперь зовут, а Зойка. Хорошая лошадь. С норовом, правда, но сильнее и выносливее всех остальных.
Потом я долго водила по кругу потемневшую от пота лошадь. Зобара, словно извиняясь, мягко трогала губами моё плечо и жарко дышала в затылок.
Подошёл Стас:
— Ты что, хочешь лошадь загнать?! Учти, она девять тысяч стоит! Не умеешь, так не берись! Вон посмотри на Таньку!
Я обернулась. Глория, запряжённая в качалку, шла рысью. Шла ровно, красиво.
— Мне кажется, у Зобары что-то с ногами. Ей трудно ходить рысью. Поэтому она и от качалки шарахается…
— Больно много ты знаешь, — усмехнулся Стас. — Ладно, посмотрим.
Через несколько дней он сказал мне:
— У неё врождённый дефект. Сближенные бабки, и ей вообще неудобно ходить рысью. Только галопом. Так что… фью-у! — Стас сделал неопределённое движение.
— Что «фью-у»? — не поняла я.
— Главный зоотехник уже подписал бумагу.
Мне казалось, что Стас устроил мне пытку.
— Её списали. На ипподроме таких не держат. Теперь продадим какому-нибудь колхозу.
— Не может быть! Ты что, Стас?!
— А что ты на меня кричишь? Это вон… аллах виноват, а не я.
— Да я ничего не говорю, я просто… — Я почувствовала, что тяжёлые слёзы застилают пеленой глаза.
В тот день Зобара встретила меня нетерпеливо и радостно. Пока я отпирала денник, она пыталась протиснуть голову сквозь прутья решётки, била копытом в дверь и звонко всхрапывала. Я до блеска вычистила короткую рыжую шерсть, расчесала жёсткий, негустой хвост.
Вывела Зобару из денника, выехала на беговую дорожку и отпустила поводья. Зобара, послушная каждому моему движению, пошла хорошей, крупной рысью, но быстро сбилась и поскакала.
Как пусто, как тихо на ипподроме, а в воскресенье ударит колокол и вперёд рванутся лошади и помчатся ровной, прекрасной рысью… Побежит красавица Глория, побежит Обрыв, серая Бланка, вороная Ягода, знаменитый жеребец Аласар… Зобара не побежит… Ей ли, с дефектом ног, такой некрасивой, тягаться с ними!
Мою Зобару увезут в далёкую деревню и заставят возить неподъёмные телеги по непролазной грязи…
Я ощущала лишь жалкую свою беспомощность и вину перед Зобарой…
Я открыла засов и вошла в пустой денник. И пустым показался мир, пустой показалась моя собственная жизнь. Я прислонилась к стене и закрыла глаза. И всё же я не верила, что Зобары нет! Вот сейчас я открою глаза и увижу рядом с собой её сухую голову с большими умными глазами… Вот сейчас Зобара мягко ткнётся мне в плечо или ласково и игриво толкнёт меня…
Скребница и щётка лежали на месте. В них запуталась рыжая короткая шерсть Зобары.
Пришёл конюх Гумер, кряхтя, поставил стремянку и стал прибивать над дверью новую латунную табличку.
Я прочла:
«Пальмира, вор., 1975 г., от Радия и Мальвы, кл. Элита».
Под ногами, в навозе, валялась помятая табличка с надписью: «Зобара». Я подняла её, очистила от грязи, положила в сумку.
— Эй, кызым! — окликнул меня Гумер абый. — Тут вон подковка валяется. Не твоей ли лошади?
— Рахмат[2], Гумер абый, — благодарно сказала я. Взяла в руки лёгкую Зобарину подковку. На счастье. А у Зобары будут другие подковы, такие, что ноги не поднимет…
Я пошла к выходу. Больше мне нечего было делать здесь. Я даже не оглянулась. Но у ворог меня догнала Танька:
— Ты что, уходишь?! Постой! Плачешь? Жалко, конечно. Но ты же с ней мучилась!
— Не надо, Тань.
— Что не надо? Зайди к Стасу, он хочет, чтобы новенькая, Пальмира, была у тебя. Вот чёткая лошадка! Ты не видела её? Все наши балдеют…
— Да не надо, Тань! Куда хоть Зобару отправили, не знаешь? — спросила я.
— В Арский район куда-то. Постой, ты что, уходишь?!
Я остановилась.
— Да, ухожу. Передай Стасу мой привет и спасибо. Я не хочу другой лошади.
— Ну и дурочка! — удивилась Танька и пожала плечами.
На ипподром я больше не пришла. Да и в школе мы с Танькой почти уже не общались. Никакой наездницей Танька не стала, а после школы устроилась приёмщицей в химчистку.
…В сентябре на втором курсе университета насотправили в колхоз на картошку. Группа у нас была дружная, и нельзя сказать, чтобы нам не нравилась «картошка». И потому мы в бодром и боевом настроении приехали в деревню Каенсар. Вечером после первого же рабочего дня я пошла искать колхозную конюшню: не могла же я упустить случая покататься верхом!
Сначала я попала на молочную ферму, потом на свинокомплекс и наконец разыскала конюшню.
Конюха в этот час не было видно. Несколько лошадей бродило в загоне — это были кобылы с жеребятами. Я остановилась, крикнула:
— Эй! Есть здесь кто-нибудь?
Но в ответ послышалось лишь ржание лошади. И я увидела, как одна лошадь подошла к забору и, пытаясь просунуть голову между брусьями, начала жадно и шумно нюхать воздух. Я тоже подошла к ней, сказала ласково:
— Ну что ты, лошадка?
И вдруг… я увидела знакомую звёздочку на лбу, знакомые глаза… Это была Зобара!
— Зобара?! Не может быть!
Она ответила мне настойчивым тихим ржанием. В один миг я перемахнула загородку, Зобара, моя Зобара ласково и радостно тормошила моё плечо, толкала меня тяжёлой головой, и её прекрасные тёмно-фиолетовые глаза светились радостью. Она первая вспомнила и узнала меня, она была жива и здорова, и это казалось чудом! «Ну конечно, — думала я, — мы же как раз в Арском районе! Как мне не пришло в голову?!»
Я посмотрела на неё. Рыжая шерсть стала очень густой. Зобара разве что немного раздалась в груди, была теперь не такой худой и жилистой, как прежде, но зато стала красивой: в ней появилась благородная и мощная стать, теперь она не казалась слишком высокой, а была хорошей, крепкой лошадкой.
А рядом с Зобарой топтался тёмно-гнедой жеребёнок с белой полоской на лбу.
Я чувствовала, что меня покидает тот горестный осадок, то чувство потери, которые были со мной всё это время, с того дня, когда я в последний раз пришла на ипподром…
Я не сразу услышала, что мне кричат:
— Что вы тут делаете, девушка?!
Невысокий черноглазый парень с седлом в руках смотрел на меня с удивлением. Я поняла, что это конюх, и рассказала ему всё.
— Вот это да! — воскликнул он. — Только её не Зобара теперь зовут, а Зойка. Хорошая лошадь. С норовом, правда, но сильнее и выносливее всех остальных.
Вечер был тихий и совсем летний. Солнце садилось, и дорога то бежала между чёрными перепаханными полями, то терялась в высокой, ещё не скошенной ржи, то спускалась к узеньким ручейкам, бегущим к речке Каенсарке. А Зобара несла меня всё дальше и дальше. Она скакала ровным и крупным галопом, и я чувствовала, как весело и радостно она соглашается с каждым моим движением. Рядом, не отставая ни на шаг, звонко перестукивал копытцами её тёмно-гнедой малыш.
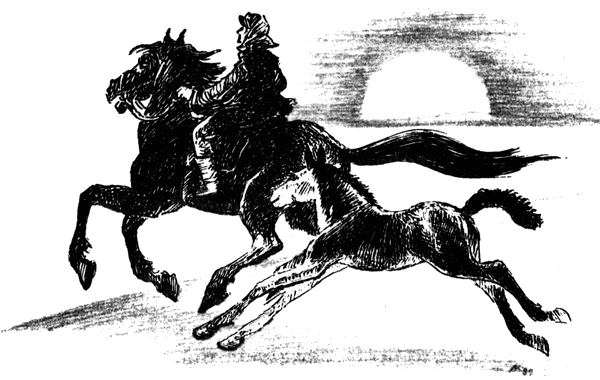
ПРЕДАТЕЛЬСТВО

1
Он был маленький, тёплый, с пушистой светлой шёрсткой. Тёмная полоска тянулась у него по спине — от головы до хвоста, похожего на тонкую верёвку. Он ничем не отличался от своих сестёр и братьев, таких же серых, как он, щенков: так же пищал, если ему было холодно, так же жадно искал сосок с тёплым и вкусным молоком и потом засыпал, успокоенный и сытый. Их мать, немецкая овчарка, была уже старой. Она облизывала всех щенков одинаково ласково, толкая неловких детёнышей к животу большим чёрным носом. Первый месяц его жизни прошёл в полутьме сухого и тёплого сарая. И не успел он как следует разглядеть то, что его окружало, недавно открывшимися мутно-голубыми глазами, как всё вокруг переменилось. Он остался совсем один, в тишине, без тёплого бока и ласкового языка матери, без возни и писка сестёр и братьев. Щенок плакал в неуютной коробке всю ночь от голода, растерянности, обиды. А когда его гладили чьи-то большие тёплые руки — успокаивался. Проходили, один за другим, дни. Неуклюжий, толстолапый, с большими ушами, которые всё время падали на глаза, щенок весело бегал по дому и по двору, трепал зубами все попадавшиеся ему вещи и оставлял где попало маленькие лужицы. Очень скоро щенок понял, что его зовут Дэн, что существуют свои игрушки и те, которые трогать нельзя и за которые его обязательно накажут: потреплют за ухо. Большой человек с тёплыми ласковыми руками был его хозяин. Чем старше становился Дэн, тем больше оказывался мир, в котором он жил, где было много чужих людей, шумных машин, где встречались и другие собаки. Дэн гордо шёл рядом с хозяином, готовый тут же зарычать: в щенке постоянно жило чувство, что хозяина нужно защищать от всех, даже от наглых и глупых голубей, которые сновали по тротуарам. К этому времени Дэну исполнилось семь месяцев. Это был высокий, ещё нескладный пёс с острыми стоячими ушами на крупной голове. Когда он лаял или улыбался, в его пасти блестели крупные молодые клыки. Однажды утром хозяин надел на Дэна намордник и, не отпуская с поводка, куда-то повёл. Они долго ехали в трамвае. Дэн жался к ногам хозяина, вздрагивая и поднимая лапы, на которые всё время наступали люди. Ему было жарко, намордник мешал высунуть язык, и, глядя на хозяина снизу вверх округлившимися глазами, Дэн нетерпеливо поскуливал и чихал от неприятных чужих запахов. Наконец они вышли из трамвая и долго гуляли по большому парку, в котором Дэн ещё никогда не был. Ему было спокойно и весело: Дэн прыгал на мягкие кучи опавшей листвы, грыз палки и носился среди деревьев, гоняя медлительных ворон. И лишь разноголосый, всё нарастающий лай привлёк его внимание. Он насторожился и заволновался. Его ошеломило множество собак — больших, шумных и сильных. Овчарки, колли, эрдельтерьеры обступали его, бесцеремонно обнюхивали, рыча и скаля зубы; Дэн вертел головой, не зная, куда деть своё большое неуклюжее тело. Подошёл, отогнав собак, хозяин, и Дэн благодарно положил лапы ему на грудь. С этого дня Дэн вместе с хозяином стал заниматься на собачьей площадке. Понятливый и смышлёный, он на лету схватывал все команды; жадно следя за хозяином, чутко ловил интонации родного голоса. Долго и с трудом давались Дэну прыжки через высокий барьер. Неловко цепляясь за него большими длинными лапами, он тяжело переваливался на другую сторону и неуклюже прыгал вниз. Собаки, которые вначале так испугали Дэна, были вовсе не страшными. Они были такими же молодыми и весёлыми, как и он, и после тренировок, во время отдыха, затевали между собой весёлые игры. И хотя Дэна иной раз трепали взрослые и очень сильные псы, это не огорчало его. Дэн не боялся ни собак, ни чужих людей. Пришла зима, с белым снегом, в котором Дэн любил валяться, с занятиями на площадке, которые он радостно ждал. Весной, когда Дэну исполнился год, он стал совсем взрослым и, наверное, красивым. По крайней мере, чужие люди всегда говорили о нём «красавец!», и Дэн понимал, что это очень хорошо. Но главное — рядом с ним был его хозяин, по которому Дэн скучал каждый день, когда тот уходил на работу. И каждый раз, встречая его, радовался, скуля от избытка чувств.2
Это воскресенье началось как обычно. Сегодня идти на площадку. Поскуливая от нетерпения, Дэн вертелся возле хозяина и не замечал, что тот был как-то по-особенному молчалив и хмур. Хозяин долго запирал дверь, и Дэн несколько раз ласково ткнулся носом в его руки, пытаясь поторопить его. В знакомом парке Дэн издали услышал громкий лай. Нет, эго был не тот лай, которым лаяли собаки на тренировках. Это была отчаянная мольба, слившаяся в один гнетущий и пугающий вой. Шерсть на загривке у Дэна поднялась, и он вопросительно посмотрел на хозяина. Хозяин шёл молча и смотрел куда-то поверх Дэна. Иногда он звонко хлестал поводком по стволам деревьев. Хозяин был с ним, а значит, всё хорошо. И Дэн оживлённо побежал вперёд. На площадке было множество овчарок. Но все они были почему-то привязаны к забору и столбам, все беспокоились, лаяли и выли, хотя их не дразнил, как обычно, большой человек в телогрейке, на которого бросались Дэн и другие молодые собаки по команде своих хозяев. Среди знакомых собак Дэн узнал подругу по тренировкам, молоденькую овчарку Вегу. Он дружески ткнул её носом и завилял хвостом, но вдруг увидел, что она совсем не замечает его. Вега дрожала, её глаза, полные страха, смотрели мимо него. Ему стало страшно. Он почуял беду. Тихое рычание заклокотало в горле, шерсть встопорщилась на загривке. Хозяин повёл его мимо собак, потом тоже привязал к забору. Дэн заскулил. «Ждать», — сказал хозяин и исчез в толпе людей. Теперь, когда Дэн был привязан, он уже не мог освободиться от охватившего его страха. Хозяин сказал ему «ждать», а значит, он вернётся и заберёт его! Дэн оглянулся на метавшихся и скуливших собак. Взглянул на людей, которые чего-то ждали. Ни Дэн, ни другие собаки не знали, что их привели сюда на продажу. Они просто чувствовали: приближается беда. Около забора остановилась машина. На площадке, один за другим, появились люди в одинаковой одежде. От них неприятно пахло кожей и железом. И сразу злобно, захлёбываясь от ярости, на них залаяли собаки. К Дэну подошёл хозяин, и когда Дэн радостно бросился к нему навстречу, вдруг грубо оттолкнул его ногой: «Тихо, Дэн!» И Дэн, не узнав его сухого голоса, обиженно притих. Он увидел, как Вегу окружили эти чужие люди. А потом потянули её за поводок и куда-то повели. В огромном неуклюжем наморднике Вега показалась ему маленькой и жалкой. Дэн вдруг ослабел. Земля уходила из-под лап. Он смотрел на хозяина. Когда к ним подошли пахнущие железом люди, хозяин заволновался, схватил за ошейник рычащего Дэна, торопливо заговорил: «Я сам, сам на него надену ошейник, а то он не дастся вам…» Дэн доверчиво подставил хозяину шею и морду, прижался к его ногам, не переставая рычать на чужих. Хозяин о чём-то говорил с людьми, и когда Дэн услышал: «Да, кобель, полтора года, кличка Дэн», то завилял хвостом. Когда чужие немного отошли от него, Дэн и вовсе успокоился. Он попытался лапами содрать большой неудобный намордник, но у него ничего не получилось. Рука хозяина вдруг коснулась его головы: — Прощай, Дэн! Домой — фу! Дэн ничего не понял и снова испугался. А хозяин повернулся к нему спиной и пошёл… Дэн стоял, вытянувшись в струнку и навострив уши. Лапы мелко дрожали. Он смотрел на спину хозяина и всё ещё не верил, что тот уходит. Хозяин оглянулся и посмотрел на Дэна. Они встретились взглядами. Глаза хозяина заморгали и опустились. Люди уходили. Вега завыла, протяжно и тонко. Разномастные овчарки лаяли и метались. Только большой серый пёс стоял молча. В его глазах застыла тёмная глухая тоска.3
Потом их долго везли в холодном железном ящике. Выли, лаяли и скреблись собаки. Дэн лежал, безучастный ко всему. Машина иногда останавливалась, входили люди и уводили по нескольку собак. И машина ехала дальше. Дэн лежал на сыром холодном полу и всё ещё не мог понять, почему его любимый хозяин оставил его. Когда машина снова остановилась, Дэна дёрнули за поводок. Уже не рыча и не огрызаясь, он послушно пошёл за человеком. Его долго вели вдоль ряда клеток. В нос то и дело ударял резкий запах. Клетки были такие тёмные, что собак, сидевших в них за толстыми сетками, почти не было видно. Некоторые собаки бросались на сетку и рычали на Дэна, а он только растерянно и непонимающе оглядывался на них. Наконец они пришли. Человек, отстегнув поводок, снял с Дэна намордник и подтолкнул его в клетку. Дэн заметался в тесной клетушке, жадно обнюхивая решётку, стены и пол. Клетка пахла разными собаками. Запахи были старые и совсем свежие. Дэн просунул нос в щель в стене и встретился с носом другой, знакомой ему собаки. От неожиданности он радостно вильнул хвостом. Это была Вега, которая тоже узнала Дэна и теперь жалобно скулила. Стемнело. Дэн всё ходил по клетке. Он сгорбился, опущенный хвост был неподвижен, и только уши и глаза чутко следили за тем, что происходило вокруг. Не взглянув на принесённую еду, он наконец лёг у самой сетки, просунув сквозь неё нос. Ночью с отчаянием выли новички. Яростно лаяли, отвечая на их вой, собаки-старожилы. Вега тонко подвывала и повизгивала. А Дэн молчал. Иногда он впадал в дремоту, и ему снилось его тёплое и родное место, его хозяин… Но видение исчезало, он просыпался, и сетка по-прежнему больно давила на его нос. Не проходила тоска по хозяину, по его голосу и ласковым рукам. Утром пришёл приземистый, пахнущий собаками человек. Он ткнул себя в грудь и сказал: «Дэн, я твой хозяин, хозяин!» Дэн отвернулся. Он смотрел, как выводят из клетки Вегу. В это время он обычно провожал хозяина на работу, а потом ждал его с нетерпением, прислушиваясь к каждому звуку за дверью. И от этого воспоминания ему стало невыносимо тяжело и ненавистно всё, что окружало его теперь. Во время прогулки его спустили с поводка. Дэн обежал весь большой двор, но не нашёл ни единой щели — кругом была стена. Когда приземистый человек позвал его к себе, он не сразу и неохотно подошёл к нему, насторожённый и угрюмый. Вокруг было много собак, каждая со своим новым хозяином. На тренировке Дэн послушно выполнял всё, что от него требовали. Только без прежней радости. Вега не слушалась нового хозяина. Она нервничала, скулила и огрызалась. И тут её ударили. Вега в ярости бросилась на обидчика, но была сбита с ног сильным ударом. Она поджала хвост и легла на землю. Шерсть на загривке Дэна поднялась, у него задрожали лапы — в руке его нового хозяина тоже был хлыст. Весь вечер Дэн метался по клетке, а ночью, когда всё стихло, начал с отчаянной быстротой царапать когтями прогнившие доски пола. Он то и дело принюхивался к тому месту, которое копал. Чихал и с шумом втягивал в себя воздух. От заноз болезненно ныли лапы. Дэн всё явственнее ощущал запах и сырость земли. Гнилые доски наконец разлетелись в щепки, и Дэн ещё быстрее и яростнее стал выкапывать землю. Светало. От непрестанной работы лапы и грудь словно окаменели. Из-под когтей сочилась кровь, но Дэн почуял свободу. Засыпанный землёй, он продвигался всё дальше и дальше. Земля забиралась в глаза и пасть; Дэн уже ничего не видел и задыхался от усталости. Когда он вылез, от слабости тряслись лапы, язык вываливался из открытой пасти. Хотелось лечь и не двигаться, но Дэн отряхнулся и пошёл: сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее.
4
По широким улицам города бежала большая серая собака. Она металась в толпе, пугая людей, растерянно останавливалась на дороге среди машин, не обращая внимания на гудки. Люди смотрели на неё, кто вскользь, кто с интересом и удивлением, и туг же забывали о ней. У каждого были свои заботы. Дэн впервые оказался в запутанном лабиринте незнакомых улиц. Но его дом, куда он так стремился, звал его, и Дэн бежал и бежал. Он устал. Сказывались два дня голода. Живот ввалился, шерсть свалялась клочьями и была перепачкана землёй. Дэн хотел лишь одного — поскорее найти хозяина, услышать его голос, лизнуть руки. И тогда — казалось Дэну — всё будет по-прежнему: весело и хорошо… Ночь он провёл в холодном пыльном подвале старого дома, лёжа бок о бок с крупной рыжей дворнягой. Вместе теплее и не так одиноко. На рассвете вокруг захлопали громкие выстрелы. Дэн хотел вскочить, но увидел, как задрожала и прижалась к земле Рыжая. Она слишком хорошо знала, что означают эти звуки. Почувствовав опасность, Дэн остался лежать. Они услышали, как совсем рядом взвизгнула подстреленная собака… Скоро всё стихло. Днём Дэн узнал наконец улицу, сквер и уже уверенно побежал к своему дому. Слова хозяина «Домой — фу!» исчезли из его памяти, всё в нём наполнилось радостью и волнением. Дэн ударил лапой по входной двери и бросился вверх по лестнице. Он почуял родной запах хозяина. От волнения ослабели лапы. Дэн смотрел на знакомую дверь, и восторг светился в его глазах. Дэн зацарапался в дверь громко и требовательно. Заскрипел замок, Дэн толкнул дверь и очутился в своей квартире. Перед ним стоял хозяин. Лапы Дэна уже готовы были опуститься на его плечи, от радости и любви перехватило дыхание… Вдруг Дэн увидел другую собаку. Пушистый щенок доверчиво смотрел на него глупыми голубыми глазёнками. Дэн попятился назад. Хозяин, очнувшись от неожиданности, заговорил: — Это ты, Дэн?! Ты пришёл? Дэн, иди ко мне, ко мне! Дэн уловил в его голосе фальшь. Человек и собака смотрели друг на друга. Собака не знала, что в человеческом мире существуют деньги, которые могут быть дороже любви, но поняла, что больше не нужна человеку. Лишь мгновение Дэн стоял неподвижно. Он увернулся от протянутой руки и выскочил за дверь. Он слышал, как за ним тяжело бежал хозяин. На улице Дэн остановился. Мелкими шажками к нему подходил хозяин. Сейчас его рука коснётся загривка. Дэн оскалил клыки и зарычал на нервно отдёрнутую руку. Дэн рычал, а в глазах не было злобы. Была только бесконечная тоска… И Дэн пошёл. Медленно, опустив голову. Он слышал голос хозяина и уходил всё дальше и дальше…А через год на площадке клуба собаководства с ужасом и мольбой смотрела на уходящего хозяина другая красивая чёрная овчарка…
НА ПОРОГЕ ТВОЁМ
 Улица была тихая, зелёная, старая, с прилепленными друг к другу, потемневшими от времени домами. С зияющими чернотой арками, что вели в уютные дворы. С высокими заборами и глухими калитками, с покрытыми старинной решёткой окошками, вылезающими прямо из-под земли, и тёмными чердачными проёмами — любимыми жилищами голубей и бездомных кошек.
Старая улица, случайно забытая на окраине микрорайона, заставленного одинаковыми панельными коробками, притягивала к себе всех местных кошек. И если коты и кошки неуютно чувствовали себя возле продуваемых ветром шумных подъездов, среди огромных дворов с железными прутьями качелей, с хилыми саженцами берёзок и скоплением машин, то Старая улица была настоящим кошачьим раем, где, даже не имея своего дома, можно было выжить долгой холодной зимой.
Целые кошачьи поколения рождались, вырастали, старели в подвалах и на чердаках Старой улицы. По весне здесь мяукали и орали на разные лады шумные кошачьи свадьбы, и местные коты славились такой отчаянной смелостью, что даже пришлые бродячие псы и те не решались забегать в тихие, глухие дворы.
В чуть покосившемся доме, что притулился к стволу старого тополя, уже седьмой десяток доживала маленькая сухонькая старуха. Одинокой осталась Мунира-апа к старости. Муж погиб в войну, а единственный сын жил с семьёй в далёкой Тюмени. Мунира-апа никогда в том городе не бывала и думала, что вряд ли доведётся ей там побывать. Жила она лишь на свою пенсию. Маленькая была пенсия, хоть и проработала Мунира-апа всю жизнь на швейной фабрике. Но много ли ей, старушке, надо? Хлеба помягче, чёрного, четвертушку, пакетик молока да яиц. Любила Мунира-апа замесить тесто с молоком да с яйцами и напечь блинов на подсолнечном масле. Получались они все, как один, круглые, как монеты, пышные и румяные. И думала тогда Мунира-апа о своих никогда не виденных внучатах, что в Тюмени живут. Думала, мечтала себе потихоньку, что, наверное, полюбились бы им душистые, в ноздреватых дырочках блины.
Иногда по праздникам Мунира-апа ездила в другой конец города к дальним родственникам. А больше никого у неё в городе не было. Перед тем как пойти в гости, всегда мылась в бане, надевала единственное своё нарядное платье, самый красивый платок повязывала, а поверх — тёплую серую шаль. Всё это, аккуратно сложенное, вынимала она из большого сундука, что стоял у неё в узенькой тёмной прихожей. И каждый раз руки натыкались на резиновое кукольное личико и пластмассовый кузов грузовика. Давно, лет десять назад, купила Мунира-апа эти игрушки для своих внуков. Не знала ведь, кто там — мальчик или девочка, вот и купила куклу и грузовик. Ждала она, что приедет сын с семьёй, что в один из дней в дверь постучат и на пороге своём она увидит сына, Ахмета, держащего за руки девочку и мальчика. Девочка будет постарше, мальчик поменьше.
Так мечталось ей долгими зимними ночами. Но не ехал сын. Мунира-апа думала, что выросли, наверное, мальчик с девочкой и уже не играют в игрушки. Но не могла расстаться с ними — игрушки стали дороги ей, и порой ей казалось, что с ними играли её внуки, а теперь, когда выросли, просто позабыли их в её сундуке.
Тогда же, десять лет назад, прибилась к её дому маленькая серенькая кошечка. Не серенькая даже, а непонятного какого-то оттенка: её густой короткий мех в бледных разводах и пятнах — жёлтых, белых, серых, коричневых. Перемешавшись, эти цвета придавали кошачьей шерсти какой-то сиреневый оттенок, а книзу, на голубовато-молочном горле и лапах, были тёмно-серые полоски. Кошечка была некрасивая, кургузенькая, с коротким хвостом и крупной головой, но на этой голове мерцали, как два огромных волшебных камня, её удивительные глазищи. Огромные, зеленоватые, глубокие, с пульсирующими точками зрачков, с лучистым рисунком в глубине.
Теперь Мунира-апа плохо помнила, откуда взялась кошка, ей казалось, что Тяпэ, так её назвали соседские детишки, всю жизнь жила с ней, спала, свернувшись клубком, на сундуке, по утрам таращила на неё свои умные глазищи и терпеливо ждала завтрака, а ночами частенько уходила по своим, одной ей ведомым делам. Мунира-апа держала Тяпэ в строгости, и кошка никогда не лазила по столу и кровати, на колени прыгала только с разрешения, была молчалива и предпочитала обращаться к хозяйке коротким ласковым «мур-мм». К пище Тяпэ тоже была не требовательна, пила молоко и очень любила блины. Большей частью Тяпэ сама добывала себе пропитание — благо на Старой улице мыши ещё не перевелись да и воробьёв с голубями было предостаточно.
Мунира-апа никогда не задумывалась над тем, любит ли она Тяпэ. Но стоило кошке не появиться два-три дня, как она начинала испытывать мучительное беспокойство и не находила себе места, пока Тяпэ не возвращалась. Хоть маленькое, но живое тёплое существо, Тяпэ наполняла тихий домик шорохами и звуками, своим сдержанным муррканьем. Было с кем поговорить зимними вечерами под тиканье старых настенных часов после того, как закончится по радио вечерний концерт. Надев очки, Мунира-апа садилась за какую-нибудь штопку; рядом, на стуле, устраивалась Тяпэ, устремив на хозяйку умный и кроткий взгляд своих бездонных глаз.
— Ай, Тяпэ-балакаем[3], не едет что-то Ахмет, сынок мой. Не знаешь, не случилось ли чего с ним? Может, дети нездоровы или жена заболела? Что молчишь, глазами хлопаешь? Холодно у них там зимой. Говорят, ещё холоднее, чем у нас. Неужели ещё холоднее? Ахмет бы приехал, печку мою поправил бы. А то ещё замёрзнем мы с тобой, а? Родственников просить неудобно, чего их отвлекать, столько своих забот. У каждого свои заботы. А мне бы, Тяпэ, в деревню съездить надо. Боюсь, умру, а не навещу родительской могилы. Грех это. В деревне моей, Ак Чишмя[4], до чего красивый родник! Родник тоже навестить надо. Ну да приедет Ахмет, алла бирса[5], свозит меня в деревню…
Так говорила Мунира-апа, обращаясь к Тяпэ, а та то щурилась одобрительно, то раскрывала глазищи с круглыми бархатно-чёрными вечерними зрачками. А за окошком шумел оледеневшими, словно металлическими ветвями замёрзший тополь, и ночная метель царапала стёкла острыми снежинками. Тополь этот задолго до войны посадил муж Муниры-апы, Габдрахман. Молод он был тогда. Молодой была и она сама…
Кошачья жизнь не так длинна, как человеческая. Казалось, совсем недавно была Тяпэ молодой игривой кошечкой и вот уже состарилась незаметно. В её сиреневую шерсть вкралась седина, клыки притупились, и прекрасные глаза были уже не так зорки, как раньше. Чем больше старела Тяпэ, тем равнодушнее становилась она к раздолью и соблазнам Старой улицы.
Что может быть прекраснее покатых крыш и тёмных чердаков, где живут голуби, заросших травой дворов и ободранных когтями стольких кошек заборов, когда ты молода, полна волнующего любопытства и нерастраченных сил? Как хорошо сидеть, презрительно постукивая хвостом, сощурив глаза, и смотреть, как твои поклонники, самые отважные коты Старой улицы, выясняют свои отношения и кричат охрипшими голосами…
Если бы Тяпэ умела рассуждать и говорить, как человек, то она непременно бы вздохнула, и не раз: «Да, было время!» — и посетовала бы на свою старость.
Но о том, что пришла старость, Тяпэ просто не знала. Она любила теперь подолгу спать на сундуке, греться у печки или сидеть на пороге и жмуриться от яркого солнца. А больше всего Тяпэ любила слушать рассказы своей хозяйки: голос Муниры-апы так уютно журчал в ушах, убаюкивал, нёс покой и умиротворение.
Улица была тихая, зелёная, старая, с прилепленными друг к другу, потемневшими от времени домами. С зияющими чернотой арками, что вели в уютные дворы. С высокими заборами и глухими калитками, с покрытыми старинной решёткой окошками, вылезающими прямо из-под земли, и тёмными чердачными проёмами — любимыми жилищами голубей и бездомных кошек.
Старая улица, случайно забытая на окраине микрорайона, заставленного одинаковыми панельными коробками, притягивала к себе всех местных кошек. И если коты и кошки неуютно чувствовали себя возле продуваемых ветром шумных подъездов, среди огромных дворов с железными прутьями качелей, с хилыми саженцами берёзок и скоплением машин, то Старая улица была настоящим кошачьим раем, где, даже не имея своего дома, можно было выжить долгой холодной зимой.
Целые кошачьи поколения рождались, вырастали, старели в подвалах и на чердаках Старой улицы. По весне здесь мяукали и орали на разные лады шумные кошачьи свадьбы, и местные коты славились такой отчаянной смелостью, что даже пришлые бродячие псы и те не решались забегать в тихие, глухие дворы.
В чуть покосившемся доме, что притулился к стволу старого тополя, уже седьмой десяток доживала маленькая сухонькая старуха. Одинокой осталась Мунира-апа к старости. Муж погиб в войну, а единственный сын жил с семьёй в далёкой Тюмени. Мунира-апа никогда в том городе не бывала и думала, что вряд ли доведётся ей там побывать. Жила она лишь на свою пенсию. Маленькая была пенсия, хоть и проработала Мунира-апа всю жизнь на швейной фабрике. Но много ли ей, старушке, надо? Хлеба помягче, чёрного, четвертушку, пакетик молока да яиц. Любила Мунира-апа замесить тесто с молоком да с яйцами и напечь блинов на подсолнечном масле. Получались они все, как один, круглые, как монеты, пышные и румяные. И думала тогда Мунира-апа о своих никогда не виденных внучатах, что в Тюмени живут. Думала, мечтала себе потихоньку, что, наверное, полюбились бы им душистые, в ноздреватых дырочках блины.
Иногда по праздникам Мунира-апа ездила в другой конец города к дальним родственникам. А больше никого у неё в городе не было. Перед тем как пойти в гости, всегда мылась в бане, надевала единственное своё нарядное платье, самый красивый платок повязывала, а поверх — тёплую серую шаль. Всё это, аккуратно сложенное, вынимала она из большого сундука, что стоял у неё в узенькой тёмной прихожей. И каждый раз руки натыкались на резиновое кукольное личико и пластмассовый кузов грузовика. Давно, лет десять назад, купила Мунира-апа эти игрушки для своих внуков. Не знала ведь, кто там — мальчик или девочка, вот и купила куклу и грузовик. Ждала она, что приедет сын с семьёй, что в один из дней в дверь постучат и на пороге своём она увидит сына, Ахмета, держащего за руки девочку и мальчика. Девочка будет постарше, мальчик поменьше.
Так мечталось ей долгими зимними ночами. Но не ехал сын. Мунира-апа думала, что выросли, наверное, мальчик с девочкой и уже не играют в игрушки. Но не могла расстаться с ними — игрушки стали дороги ей, и порой ей казалось, что с ними играли её внуки, а теперь, когда выросли, просто позабыли их в её сундуке.
Тогда же, десять лет назад, прибилась к её дому маленькая серенькая кошечка. Не серенькая даже, а непонятного какого-то оттенка: её густой короткий мех в бледных разводах и пятнах — жёлтых, белых, серых, коричневых. Перемешавшись, эти цвета придавали кошачьей шерсти какой-то сиреневый оттенок, а книзу, на голубовато-молочном горле и лапах, были тёмно-серые полоски. Кошечка была некрасивая, кургузенькая, с коротким хвостом и крупной головой, но на этой голове мерцали, как два огромных волшебных камня, её удивительные глазищи. Огромные, зеленоватые, глубокие, с пульсирующими точками зрачков, с лучистым рисунком в глубине.
Теперь Мунира-апа плохо помнила, откуда взялась кошка, ей казалось, что Тяпэ, так её назвали соседские детишки, всю жизнь жила с ней, спала, свернувшись клубком, на сундуке, по утрам таращила на неё свои умные глазищи и терпеливо ждала завтрака, а ночами частенько уходила по своим, одной ей ведомым делам. Мунира-апа держала Тяпэ в строгости, и кошка никогда не лазила по столу и кровати, на колени прыгала только с разрешения, была молчалива и предпочитала обращаться к хозяйке коротким ласковым «мур-мм». К пище Тяпэ тоже была не требовательна, пила молоко и очень любила блины. Большей частью Тяпэ сама добывала себе пропитание — благо на Старой улице мыши ещё не перевелись да и воробьёв с голубями было предостаточно.
Мунира-апа никогда не задумывалась над тем, любит ли она Тяпэ. Но стоило кошке не появиться два-три дня, как она начинала испытывать мучительное беспокойство и не находила себе места, пока Тяпэ не возвращалась. Хоть маленькое, но живое тёплое существо, Тяпэ наполняла тихий домик шорохами и звуками, своим сдержанным муррканьем. Было с кем поговорить зимними вечерами под тиканье старых настенных часов после того, как закончится по радио вечерний концерт. Надев очки, Мунира-апа садилась за какую-нибудь штопку; рядом, на стуле, устраивалась Тяпэ, устремив на хозяйку умный и кроткий взгляд своих бездонных глаз.
— Ай, Тяпэ-балакаем[3], не едет что-то Ахмет, сынок мой. Не знаешь, не случилось ли чего с ним? Может, дети нездоровы или жена заболела? Что молчишь, глазами хлопаешь? Холодно у них там зимой. Говорят, ещё холоднее, чем у нас. Неужели ещё холоднее? Ахмет бы приехал, печку мою поправил бы. А то ещё замёрзнем мы с тобой, а? Родственников просить неудобно, чего их отвлекать, столько своих забот. У каждого свои заботы. А мне бы, Тяпэ, в деревню съездить надо. Боюсь, умру, а не навещу родительской могилы. Грех это. В деревне моей, Ак Чишмя[4], до чего красивый родник! Родник тоже навестить надо. Ну да приедет Ахмет, алла бирса[5], свозит меня в деревню…
Так говорила Мунира-апа, обращаясь к Тяпэ, а та то щурилась одобрительно, то раскрывала глазищи с круглыми бархатно-чёрными вечерними зрачками. А за окошком шумел оледеневшими, словно металлическими ветвями замёрзший тополь, и ночная метель царапала стёкла острыми снежинками. Тополь этот задолго до войны посадил муж Муниры-апы, Габдрахман. Молод он был тогда. Молодой была и она сама…
Кошачья жизнь не так длинна, как человеческая. Казалось, совсем недавно была Тяпэ молодой игривой кошечкой и вот уже состарилась незаметно. В её сиреневую шерсть вкралась седина, клыки притупились, и прекрасные глаза были уже не так зорки, как раньше. Чем больше старела Тяпэ, тем равнодушнее становилась она к раздолью и соблазнам Старой улицы.
Что может быть прекраснее покатых крыш и тёмных чердаков, где живут голуби, заросших травой дворов и ободранных когтями стольких кошек заборов, когда ты молода, полна волнующего любопытства и нерастраченных сил? Как хорошо сидеть, презрительно постукивая хвостом, сощурив глаза, и смотреть, как твои поклонники, самые отважные коты Старой улицы, выясняют свои отношения и кричат охрипшими голосами…
Если бы Тяпэ умела рассуждать и говорить, как человек, то она непременно бы вздохнула, и не раз: «Да, было время!» — и посетовала бы на свою старость.
Но о том, что пришла старость, Тяпэ просто не знала. Она любила теперь подолгу спать на сундуке, греться у печки или сидеть на пороге и жмуриться от яркого солнца. А больше всего Тяпэ любила слушать рассказы своей хозяйки: голос Муниры-апы так уютно журчал в ушах, убаюкивал, нёс покой и умиротворение.
 Тяпэ не любила расставаться с Мунирой-апой, и потому частенько ходила с ней даже в магазин. Она боялась множества людей и шумной суеты магазина, но, прижимаясь к ногам хозяйки, ощущала себя в безопасности. А когда Мунира-апа уходила в гости и выпускала Тяпэ во двор, кошка устраивалась на пороге у двери и, пока Мунира-апа не возвращалась, не двигалась с места.
Как оживал весной старый тополь у дома Муниры-апы, так и старушка Тяпэ к весне словно просыпалась. Подолгу, в одиночестве, гуляла она по знакомым лабиринтам Старой улицы, и при виде ошалевших чирикающих воробьёв у неё по-молодому загорались глаза и вздрагивали кончики длинных седых усов: Тяпэ прижималась к земле, затаивалась, несколько раз даже прыгала, но годы уже не те: не было прежней ловкости и стремительности, воробьи с шумом разлетались в разные стороны.
Тяпэ возвращалась домой, с ласковым, просительным «мур-мм» вспрыгивала на хозяйкины колени и замирала от удовольствия, ощущая на спине лёгкую ладонь Муниры-апы.
Потом они шли в магазин, и продавцы уже не удивлялись; они привыкли видеть сухонькую маленькую старушку в сопровождении то ли сиреневой, то ли седой кошки с коротким тонким хвостом.
Снова к лету ждала Мунира-апа сына с детьми. Думала: ни к чему зимой приезжать, а вот летом хорошо бы, здесь тёплое, хорошее лето. В Тюмени-то холодное, наверное.
Уже стоял на дворе весёлый тёплый май, и в домике сразу стало темнее от распустившего свои новые яркие листья тополя. На Старой улице зацвели вишни и яблони.
…В один из тёплых, напоённых запахом цветущих деревьев дней Мунира-апа умерла. Несколько дней в маленьком домике царила непривычная суета и было много людей: соседки Муниры-апы со Старой улицы, дальние родственники и сын Ахмет, которого вызвали из Тюмени телеграммой.
Никто не заметил отсутствия кошки. Да и знал ли кто-нибудь из них о существовании Тяпэ? Вряд ли.
Прошла неделя, когда на крыльце появилась Тяпэ, исхудавшая, с одичалыми, полными тоски глазами. Она долго топталась на родном пороге, вздрагивая короткими обгрызенными ушами, напрасно прислушиваясь к тишине по ту сторону двери, на которой висел большой новый замок. Она не мяукала и не просилась в дверь. Она свернулась клубком на пороге и лежала так, не смыкая огромных, ничего вокруг не видевших глаз.
Потом Тяпэ пропала. И никто никогда не видел больше маленькой сиреневой кошки. Никто никогда о ней не вспомнил.
Тяпэ не любила расставаться с Мунирой-апой, и потому частенько ходила с ней даже в магазин. Она боялась множества людей и шумной суеты магазина, но, прижимаясь к ногам хозяйки, ощущала себя в безопасности. А когда Мунира-апа уходила в гости и выпускала Тяпэ во двор, кошка устраивалась на пороге у двери и, пока Мунира-апа не возвращалась, не двигалась с места.
Как оживал весной старый тополь у дома Муниры-апы, так и старушка Тяпэ к весне словно просыпалась. Подолгу, в одиночестве, гуляла она по знакомым лабиринтам Старой улицы, и при виде ошалевших чирикающих воробьёв у неё по-молодому загорались глаза и вздрагивали кончики длинных седых усов: Тяпэ прижималась к земле, затаивалась, несколько раз даже прыгала, но годы уже не те: не было прежней ловкости и стремительности, воробьи с шумом разлетались в разные стороны.
Тяпэ возвращалась домой, с ласковым, просительным «мур-мм» вспрыгивала на хозяйкины колени и замирала от удовольствия, ощущая на спине лёгкую ладонь Муниры-апы.
Потом они шли в магазин, и продавцы уже не удивлялись; они привыкли видеть сухонькую маленькую старушку в сопровождении то ли сиреневой, то ли седой кошки с коротким тонким хвостом.
Снова к лету ждала Мунира-апа сына с детьми. Думала: ни к чему зимой приезжать, а вот летом хорошо бы, здесь тёплое, хорошее лето. В Тюмени-то холодное, наверное.
Уже стоял на дворе весёлый тёплый май, и в домике сразу стало темнее от распустившего свои новые яркие листья тополя. На Старой улице зацвели вишни и яблони.
…В один из тёплых, напоённых запахом цветущих деревьев дней Мунира-апа умерла. Несколько дней в маленьком домике царила непривычная суета и было много людей: соседки Муниры-апы со Старой улицы, дальние родственники и сын Ахмет, которого вызвали из Тюмени телеграммой.
Никто не заметил отсутствия кошки. Да и знал ли кто-нибудь из них о существовании Тяпэ? Вряд ли.
Прошла неделя, когда на крыльце появилась Тяпэ, исхудавшая, с одичалыми, полными тоски глазами. Она долго топталась на родном пороге, вздрагивая короткими обгрызенными ушами, напрасно прислушиваясь к тишине по ту сторону двери, на которой висел большой новый замок. Она не мяукала и не просилась в дверь. Она свернулась клубком на пороге и лежала так, не смыкая огромных, ничего вокруг не видевших глаз.
Потом Тяпэ пропала. И никто никогда не видел больше маленькой сиреневой кошки. Никто никогда о ней не вспомнил.
ВО ВСЁМ ВИНОВАТ СЭМ
 Сэм проснулся оттого, что почувствовал, как хозяин тормошит его за ухо.
— Сэм, вставай, лентяй! Хватит дрыхнуть, ты посмотри, какое утро! Пойдём гулять?
Чуть приоткрыв глаза, Сэм потянулся на маленьком диване и зевнул всей пастью. Со сна глаза его чуть припухли, как у невыспавшегося человека. Сэм спрыгнул с дивана, прошёлся по комнате, заглянул в другую. Там ещё спала хозяйка.
Сэм был маленький французский бульдог, чёрный, коротконогий, широкогрудый, с плотным мускулистым телом. Глаза на крупной курносой голове походили на две чёрные сливы.
— Ну что, пошли? — сказал хозяин, отпирая дверь.
Фыркая, Сэм выбежал из квартиры, упругим мячиком скатился по лестнице, с разбега ударил грудью о входную дверь и вылетел на улицу. Из-за угла испуганно метнулся серый кот, но Сэм, не обратив на него внимания, обнюхал ствол старого дерева и поднял заднюю лапу. Сэм огляделся вокруг и увидел знакомого дворника. Метла, которая в его руках со скрипом взад и вперёд ходила по асфальту, показалась Сэму забавной, и он с весёлым лаем кинулся на неё.
— У-у, выродок, пошёл вон! — крикнул дворник и замахнулся на Сэма метлой.
Отскочив, Сэм обиженно залаял на него.
— Пошёл, пошёл отсюда! — ругался дворник, наступая на Сэма.
Тогда бульдог с рычанием прыгнул на дворника и выбил метлу из его рук.
— Сэм, нельзя! — крикнул хозяин.
— Я на вашу собаку буду жаловаться, — ругался дворник, но хозяин и Сэм уже не обращали на него внимания.
Сэм поймал взгляд хозяина и спросил его, дыша открытой пастью: «Ну что?»
— Нехорошо! — Хозяин погрозил ему пальцем.
Низкое утреннее солнце отражалось в мокром, только что политом асфальте.
Город тонул в голубой, обещающей жару дымке. Улица заросла высокими тополями, и в их листве чирикали и ссорились воробьи. Хозяин и Сэм пришли в большой старый парк. Вот уже три года, с тех пор, как появился Сэм, они часто гуляли здесь. Правда, зимой приходили сюда редко, только в тихие тёплые дни. Зимой Сэм сильно замерзал и довольствовался быстрыми пробежками по своему двору. К тому же тёмными и холодными зимними утрами ему больше всего хотелось спать, уткнувшись носом в угол своего дивана, и, когда хозяева включали свет, он недовольно щурился и отворачивался.
А летом всё было иначе. Лето и приходило для того, чтобы бегать по высокой траве, валяться в песке на речном берегу, есть ягоды и яблоки, которые Сэм очень любил.
В кронах деревьев прятался тёплый ветер, и по жёлтой тропинке беспорядочно прыгали солнечные блики. Сэм мчался вперёд, разгоняясь, как тяжёлый шар, и ему было трудно остановиться. Он очень любил, когда хозяин бросал палку далеко вниз, с крутого склона оврага, и тогда катился вслед за ней, ломая кусты и сухие ветки.
Они спустились к реке. Мягкий тёплый песок всегда нравился Сэму. Не чувствуя под собой твёрдой опоры, Сэм неистово замолотил по песку лапами.
— Эй, коротышка, догоняй! — крикнул хозяин и побежал вдоль берега.
«А-ах, а-ах, а-ах!» — завизжал Сэм и, вырвавшись из зыбких объятий песка, мигом догнал хозяина и стал кусать его за ботинки.
Сэм проснулся оттого, что почувствовал, как хозяин тормошит его за ухо.
— Сэм, вставай, лентяй! Хватит дрыхнуть, ты посмотри, какое утро! Пойдём гулять?
Чуть приоткрыв глаза, Сэм потянулся на маленьком диване и зевнул всей пастью. Со сна глаза его чуть припухли, как у невыспавшегося человека. Сэм спрыгнул с дивана, прошёлся по комнате, заглянул в другую. Там ещё спала хозяйка.
Сэм был маленький французский бульдог, чёрный, коротконогий, широкогрудый, с плотным мускулистым телом. Глаза на крупной курносой голове походили на две чёрные сливы.
— Ну что, пошли? — сказал хозяин, отпирая дверь.
Фыркая, Сэм выбежал из квартиры, упругим мячиком скатился по лестнице, с разбега ударил грудью о входную дверь и вылетел на улицу. Из-за угла испуганно метнулся серый кот, но Сэм, не обратив на него внимания, обнюхал ствол старого дерева и поднял заднюю лапу. Сэм огляделся вокруг и увидел знакомого дворника. Метла, которая в его руках со скрипом взад и вперёд ходила по асфальту, показалась Сэму забавной, и он с весёлым лаем кинулся на неё.
— У-у, выродок, пошёл вон! — крикнул дворник и замахнулся на Сэма метлой.
Отскочив, Сэм обиженно залаял на него.
— Пошёл, пошёл отсюда! — ругался дворник, наступая на Сэма.
Тогда бульдог с рычанием прыгнул на дворника и выбил метлу из его рук.
— Сэм, нельзя! — крикнул хозяин.
— Я на вашу собаку буду жаловаться, — ругался дворник, но хозяин и Сэм уже не обращали на него внимания.
Сэм поймал взгляд хозяина и спросил его, дыша открытой пастью: «Ну что?»
— Нехорошо! — Хозяин погрозил ему пальцем.
Низкое утреннее солнце отражалось в мокром, только что политом асфальте.
Город тонул в голубой, обещающей жару дымке. Улица заросла высокими тополями, и в их листве чирикали и ссорились воробьи. Хозяин и Сэм пришли в большой старый парк. Вот уже три года, с тех пор, как появился Сэм, они часто гуляли здесь. Правда, зимой приходили сюда редко, только в тихие тёплые дни. Зимой Сэм сильно замерзал и довольствовался быстрыми пробежками по своему двору. К тому же тёмными и холодными зимними утрами ему больше всего хотелось спать, уткнувшись носом в угол своего дивана, и, когда хозяева включали свет, он недовольно щурился и отворачивался.
А летом всё было иначе. Лето и приходило для того, чтобы бегать по высокой траве, валяться в песке на речном берегу, есть ягоды и яблоки, которые Сэм очень любил.
В кронах деревьев прятался тёплый ветер, и по жёлтой тропинке беспорядочно прыгали солнечные блики. Сэм мчался вперёд, разгоняясь, как тяжёлый шар, и ему было трудно остановиться. Он очень любил, когда хозяин бросал палку далеко вниз, с крутого склона оврага, и тогда катился вслед за ней, ломая кусты и сухие ветки.
Они спустились к реке. Мягкий тёплый песок всегда нравился Сэму. Не чувствуя под собой твёрдой опоры, Сэм неистово замолотил по песку лапами.
— Эй, коротышка, догоняй! — крикнул хозяин и побежал вдоль берега.
«А-ах, а-ах, а-ах!» — завизжал Сэм и, вырвавшись из зыбких объятий песка, мигом догнал хозяина и стал кусать его за ботинки.
 Потом они встретили знакомого колли Криса. Сэм его не любил, потому что не мог забыть, как Крис больно укусил его когда-то в детстве. Теперь же Сэм давно вырос и считал возможным отомстить Крису. В нём Сэму было противно всё: и узкая лисья морда с длинными острыми клыками, и маленькие жёлтые глаза, и вихляющая походка, и даже голос — звонкий и плаксивый. Как-то раз, неудачно ударив мордой Криса в шею, Сэм почувствовал, какая она у него тоненькая, хотя и казалась мощной и гордой, спрятанная под роскошной рыже-белой гривой. После этого Сэм стал презирать Криса, а заодно и всех лохматых собак. Ясно, что под густой шерстью они прятали свои тонкие шеи и узкие тела. То, что Сэм со своим ростом мог спокойно пройти под животом Криса, ничуть его не смущало. Он не знал чувства страха.
Крис подошёл к Сэму с нагло сморщенной мордой, помахивая хвостом, как помелом. От его взгляда, брошенного сверху вниз, у Сэма стали наливаться кровью глаза, и он почувствовал болезненное напряжение в челюстях. Ему захотелось вцепиться в эту лисью морду и разжевать её зубами.
— Ваш Сэм совсем взрослый стал, — усмехнулся хозяин Криса. — Скоро, пожалуй, начнёт испытывать на Крисе свои челюсти.
— Да, вроде должна бы к трём годам появиться мёртвая хватка. По крайней мере, когда я его брал в клубе, мне так сказали. Сэм, перестань ругаться, пошли!
Напряжение в челюстях не спадало, и на скулах Сэма застыли жёсткие шарики мышц. Он заскулил и неохотно отвернулся от Криса.
Обратно домой Сэм шёл злой. Ему хотелось выместить своё раздражение на ком-нибудь, и он бросал по-сторонам насторожённые взгляды. Хорошо зная все привычки Сэма, хозяин взял его на поводок и уже не спускал до самого дома.
Дома вкусно пахло жареной колбасой. Сэм тут же очутился на кухне и, вскочив на табуретку, вперил жадный умоляющий взгляд в круглую сковородку, на которой шипели кусочки колбасы. Он так долго смотрел на неё, что по углам его рта тонкими нитями повисли слюни. Сэм знал, что у хозяина просить что-либо бесполезно, и направил свой страдальческий взгляд на хозяйку. Хозяйка украдкой дала ему кусочек, Сэм отвернулся и незаметно проглотил колбасу. Покосился круглым сливовым глазом на хозяина. На этот раз всё спокойно, и, значит, есть надежда получить ещё…
Хозяева начали собираться, забегали из комнаты в комнату, и у Сэма пропал аппетит. Он не любил оставаться один. Сэм понуро вышел в прихожую.
Он знал, что хозяева торопятся на работу. Он очень не любил слово «работа». Работа означала для него ожидание. Ожидание шагов за дверью и скрипа ключа в замке. Иногда, уставая ждать хозяев, Сэм устраивал в квартире маленький погром, раскидывая по комнате всё, что только было возможно. Особенно нравилось Сэму залезать на кухонный стол и скидывать оттуда чашки с недопитым чаем. Они с треском бились об пол и раскалывались, а Сэм смотрел на них сверху и радостно лаял, ворочая своим неподвижным и закрученным, как у поросёнка, хвостиком. Правда, после этого хозяйка всегда ругалась, и Сэм чувствовал себя ужасно виноватым. Вообще же, в момент расправы он старался держаться поближе к хозяину. А если Сэму не хотелось хулиганить, он спал в кресле хозяина до самого вечера.
— Ну, не скучай, Сэм. Мы на работу. На работу. — Хозяйка погладила его по голове.
— Пока, Сэм! — сказал хозяин, и они вышли из квартиры.
Насторожив большие стоячие уши, Сэм внимательно дослушал шелест их шагов по лестнице и, когда за ними хлопнула входная дверь, поплёлся в комнату. Вспомнил, что на столе осталась колбаса. Но одному есть было скучно. Он прыгнул в кресло и, кряхтя, устроился в нём поудобнее.
Стоило Сэму закрыть глаза, как он громко захрапел. Он и сам знал, что храпеть — это плохо. Ведь хозяин по ночам обычно кричал ему из другой комнаты: «Сэм, не храпи!»
Тогда Сэм просыпался, вздыхая, и засыпал снова. Не храпеть Сэм не мог. Так уж устроен бульдожий нос.
Ему снилось, как они с хозяином бежали по лесу и вдруг он потерял хозяина из виду. Остановился, жадно прислушиваясь. Какие-то непонятные скрежещущие звуки насторожили его. Он бросился на звук с рычанием и проснулся. В дверь позвонили.
Кто-то открывал замок. За дверью были люди, но не хозяева. Сэм понял это по тому, как осторожно и неуверенно поворачивался в замке ключ. Сэм чуть привстал на кресле, и лапы его мелко дрожали.
Когда дверь открылась и Сэм почувствовал в квартире людей, он спрыгнул с кресла и, цокая когтями об пол, побежал в прихожую. Чужой запах ударил в нос, и Сэм захлебнулся в яростном рыке, прыгнул тугим мускулистым комком на человека и укусил его руку. Он ощутил привкус крови.
— A-а, здесь собака!
— Сейчас мы её уберём…
Потом они встретили знакомого колли Криса. Сэм его не любил, потому что не мог забыть, как Крис больно укусил его когда-то в детстве. Теперь же Сэм давно вырос и считал возможным отомстить Крису. В нём Сэму было противно всё: и узкая лисья морда с длинными острыми клыками, и маленькие жёлтые глаза, и вихляющая походка, и даже голос — звонкий и плаксивый. Как-то раз, неудачно ударив мордой Криса в шею, Сэм почувствовал, какая она у него тоненькая, хотя и казалась мощной и гордой, спрятанная под роскошной рыже-белой гривой. После этого Сэм стал презирать Криса, а заодно и всех лохматых собак. Ясно, что под густой шерстью они прятали свои тонкие шеи и узкие тела. То, что Сэм со своим ростом мог спокойно пройти под животом Криса, ничуть его не смущало. Он не знал чувства страха.
Крис подошёл к Сэму с нагло сморщенной мордой, помахивая хвостом, как помелом. От его взгляда, брошенного сверху вниз, у Сэма стали наливаться кровью глаза, и он почувствовал болезненное напряжение в челюстях. Ему захотелось вцепиться в эту лисью морду и разжевать её зубами.
— Ваш Сэм совсем взрослый стал, — усмехнулся хозяин Криса. — Скоро, пожалуй, начнёт испытывать на Крисе свои челюсти.
— Да, вроде должна бы к трём годам появиться мёртвая хватка. По крайней мере, когда я его брал в клубе, мне так сказали. Сэм, перестань ругаться, пошли!
Напряжение в челюстях не спадало, и на скулах Сэма застыли жёсткие шарики мышц. Он заскулил и неохотно отвернулся от Криса.
Обратно домой Сэм шёл злой. Ему хотелось выместить своё раздражение на ком-нибудь, и он бросал по-сторонам насторожённые взгляды. Хорошо зная все привычки Сэма, хозяин взял его на поводок и уже не спускал до самого дома.
Дома вкусно пахло жареной колбасой. Сэм тут же очутился на кухне и, вскочив на табуретку, вперил жадный умоляющий взгляд в круглую сковородку, на которой шипели кусочки колбасы. Он так долго смотрел на неё, что по углам его рта тонкими нитями повисли слюни. Сэм знал, что у хозяина просить что-либо бесполезно, и направил свой страдальческий взгляд на хозяйку. Хозяйка украдкой дала ему кусочек, Сэм отвернулся и незаметно проглотил колбасу. Покосился круглым сливовым глазом на хозяина. На этот раз всё спокойно, и, значит, есть надежда получить ещё…
Хозяева начали собираться, забегали из комнаты в комнату, и у Сэма пропал аппетит. Он не любил оставаться один. Сэм понуро вышел в прихожую.
Он знал, что хозяева торопятся на работу. Он очень не любил слово «работа». Работа означала для него ожидание. Ожидание шагов за дверью и скрипа ключа в замке. Иногда, уставая ждать хозяев, Сэм устраивал в квартире маленький погром, раскидывая по комнате всё, что только было возможно. Особенно нравилось Сэму залезать на кухонный стол и скидывать оттуда чашки с недопитым чаем. Они с треском бились об пол и раскалывались, а Сэм смотрел на них сверху и радостно лаял, ворочая своим неподвижным и закрученным, как у поросёнка, хвостиком. Правда, после этого хозяйка всегда ругалась, и Сэм чувствовал себя ужасно виноватым. Вообще же, в момент расправы он старался держаться поближе к хозяину. А если Сэму не хотелось хулиганить, он спал в кресле хозяина до самого вечера.
— Ну, не скучай, Сэм. Мы на работу. На работу. — Хозяйка погладила его по голове.
— Пока, Сэм! — сказал хозяин, и они вышли из квартиры.
Насторожив большие стоячие уши, Сэм внимательно дослушал шелест их шагов по лестнице и, когда за ними хлопнула входная дверь, поплёлся в комнату. Вспомнил, что на столе осталась колбаса. Но одному есть было скучно. Он прыгнул в кресло и, кряхтя, устроился в нём поудобнее.
Стоило Сэму закрыть глаза, как он громко захрапел. Он и сам знал, что храпеть — это плохо. Ведь хозяин по ночам обычно кричал ему из другой комнаты: «Сэм, не храпи!»
Тогда Сэм просыпался, вздыхая, и засыпал снова. Не храпеть Сэм не мог. Так уж устроен бульдожий нос.
Ему снилось, как они с хозяином бежали по лесу и вдруг он потерял хозяина из виду. Остановился, жадно прислушиваясь. Какие-то непонятные скрежещущие звуки насторожили его. Он бросился на звук с рычанием и проснулся. В дверь позвонили.
Кто-то открывал замок. За дверью были люди, но не хозяева. Сэм понял это по тому, как осторожно и неуверенно поворачивался в замке ключ. Сэм чуть привстал на кресле, и лапы его мелко дрожали.
Когда дверь открылась и Сэм почувствовал в квартире людей, он спрыгнул с кресла и, цокая когтями об пол, побежал в прихожую. Чужой запах ударил в нос, и Сэм захлебнулся в яростном рыке, прыгнул тугим мускулистым комком на человека и укусил его руку. Он ощутил привкус крови.
— A-а, здесь собака!
— Сейчас мы её уберём…
 Их было двое. Сэм снова прыгнул, увернувшись от удара, и схватил руку выше кисти. Но его зубы скользнули по плотной материи. В прихожей было тесно, и Сэм чувствовал себя скованным в этом замкнутом пространстве. Ослепнув от бешенства и не почувствовав сильного удара в бок, Сэм бросился на обоих сразу, уже не разбирая, на кого из вошедших он прыгает. Жёсткая и плотная мешковина забила его пасть, обволокла всё тело. Рыча и задыхаясь, он забился, как пойманный зверь, пытаясь прокусить и разорвать ткань. Он почувствовал, как его подняли на руки.
— Ну и тяжёлый, сволочь!
Страха не было. Сэм хрипел от ярости и своего бессилия. И вдруг на мгновение завис в воздухе и полетел вниз.
Сэма выбросили со второго этажа. Ломая кусты, тяжёлый куль ударился о землю. Инстинктивно Сэму удалось с кошачьей гибкостью перевернуться в воздухе, и он упал на лапы. Мешковина развернулась и освободила его. От боли почернело в глазах. Что-то случилось с его задними лапами. Сэм не чувствовал их, всё поглотила острая боль. Он поднял голову и сквозь траву и цветы увидел чёрный проём раскрытой двери подъезда. Сэм рванулся вперёд всем телом и, заскулив от боли, пополз на передних лапах. Он скулил всё тише и тише и только дышал хрипло, с надрывом, захлёбываясь слюной. Запах земли остро щекотал нос. Прохладная и сырая, она приятно холодила горячее тело Сэма. Он подполз к самому штакетнику. В нём было выломано два бруска. Сэм с трудом протиснулся в проём и оказался под скамейкой. Он замер, уронив голову и дыша раскрытой пастью в пыльный, засыпанный вонючими окурками асфальт. И только налитые кровью глаза непрерывно глядели на раскрытую дверь подъезда.
На скамейке сидели две старушки. Сэм знал их, они были соседями его хозяев по этажу. Одну из них он не любил, потому что с ней часто почему-то ругался его хозяин. К тому же Сэм чувствовал, что она ненавидит его, и, хотя никогда не кусал её, всегда лаял на неё задиристо и беззлобно.
Из подъезда вышли двое. Сэм увидел их и забыл о боли. Теперь это был хищник, который замер в ожидании. Всё тело его налилось неудержимой силой, у него напряглись челюсти, и Сэм перестал дышать. Двое остановились, вытащили папиросы, закурили. Сэм увидел в руках одного из них коричневый портфель хозяина. Ярость сдавила грудь. Сэм с рёвом рванулся из-под скамейки. Он не чувствовал своих задних лап и прыгнул лишь передними, как когда-то учил его хозяин. Испуганные крики старушек, вопль ужаса, который вырвался у его врагов, — их голоса смешались с диким, захлёбывающимся рычанием Сэма. Всё произошло так неожиданно, что жертва Сэма не успела отскочить, и Сэм вцепился прямо в мясистое бедро. На этот раз Сэм схватил удачно и, оторвавшись от земли, повис на ноге всей тяжестью тела.
На душераздирающий человеческий крик бежали люди.
Удары сыпались на голову Сэма. Он закрыл глаза и сильнее сжал челюсти. Как будто что-то хрустнуло в них и сдавило их так, что зубы заскрипели о зубы. Сэм застонал от боли, а челюсти сжимались и сжимались.
— О-о-а-а! Помогите, помогите!
— Бей по голове его, по голове!
— Я знаю эту собаку, соседская она! Они, ироды, аж на меня её травили! — громче всех кричала старушка. — Люди, люди, помогите, человека убивают, ироды проклятые!
Глаза Сэма заливала кровь, он только чувствовал, как его зубы всё глубже вгрызаются в живое, ненавистное мясо. Его враг упал и стал биться, пытаясь оторвать от себя Сэма. Кто-то схватил его за туловище и тянул прочь, но челюсти уже не могли разжаться. Страшная боль всё росла, и от этого Сэм визжал и скулил.
Вокруг них собралась большая толпа.
— Это как это добрым людям такая мука от мерзкой твари! — кричала старушка.
— Он сегодня утром меня укусить хотел! — подхватил подбежавший дворник и ударил Сэма лопатой.
— «Скорую» надо вызвать!
— Чёртова собака, на людей бросается!
— Убейте её, убейте чем-нибудь, а так не отцепишь!
— Да скорей же, скорей… Нож, там у тебя… — застонала жертва Сэма.
Лезвие обожгло натянутое горло Сэма.
— Мама, зачем собаку убивают? — вскрикнул детский голос.
— Она сама во всём виновата, сынок! Она бешеная, на людей кидается и тебя бы укусила. Пойдём, пойдём, не смотри!
С трудом разжали пасть уже мёртвого неподвижного Сэма.
Раненому вынесли воды, перевязали ногу. От «скорой помощи» он отказался. Второй его спутник быстро поймал машину, и они уехали. А когда возмущённые люди вместе с домоуправом заколотили и зазвонили в квартиру хозяев Сэма, дверь в ней оказалась открытой. В комнатах в беспорядке были разбросаны вещи.
Их было двое. Сэм снова прыгнул, увернувшись от удара, и схватил руку выше кисти. Но его зубы скользнули по плотной материи. В прихожей было тесно, и Сэм чувствовал себя скованным в этом замкнутом пространстве. Ослепнув от бешенства и не почувствовав сильного удара в бок, Сэм бросился на обоих сразу, уже не разбирая, на кого из вошедших он прыгает. Жёсткая и плотная мешковина забила его пасть, обволокла всё тело. Рыча и задыхаясь, он забился, как пойманный зверь, пытаясь прокусить и разорвать ткань. Он почувствовал, как его подняли на руки.
— Ну и тяжёлый, сволочь!
Страха не было. Сэм хрипел от ярости и своего бессилия. И вдруг на мгновение завис в воздухе и полетел вниз.
Сэма выбросили со второго этажа. Ломая кусты, тяжёлый куль ударился о землю. Инстинктивно Сэму удалось с кошачьей гибкостью перевернуться в воздухе, и он упал на лапы. Мешковина развернулась и освободила его. От боли почернело в глазах. Что-то случилось с его задними лапами. Сэм не чувствовал их, всё поглотила острая боль. Он поднял голову и сквозь траву и цветы увидел чёрный проём раскрытой двери подъезда. Сэм рванулся вперёд всем телом и, заскулив от боли, пополз на передних лапах. Он скулил всё тише и тише и только дышал хрипло, с надрывом, захлёбываясь слюной. Запах земли остро щекотал нос. Прохладная и сырая, она приятно холодила горячее тело Сэма. Он подполз к самому штакетнику. В нём было выломано два бруска. Сэм с трудом протиснулся в проём и оказался под скамейкой. Он замер, уронив голову и дыша раскрытой пастью в пыльный, засыпанный вонючими окурками асфальт. И только налитые кровью глаза непрерывно глядели на раскрытую дверь подъезда.
На скамейке сидели две старушки. Сэм знал их, они были соседями его хозяев по этажу. Одну из них он не любил, потому что с ней часто почему-то ругался его хозяин. К тому же Сэм чувствовал, что она ненавидит его, и, хотя никогда не кусал её, всегда лаял на неё задиристо и беззлобно.
Из подъезда вышли двое. Сэм увидел их и забыл о боли. Теперь это был хищник, который замер в ожидании. Всё тело его налилось неудержимой силой, у него напряглись челюсти, и Сэм перестал дышать. Двое остановились, вытащили папиросы, закурили. Сэм увидел в руках одного из них коричневый портфель хозяина. Ярость сдавила грудь. Сэм с рёвом рванулся из-под скамейки. Он не чувствовал своих задних лап и прыгнул лишь передними, как когда-то учил его хозяин. Испуганные крики старушек, вопль ужаса, который вырвался у его врагов, — их голоса смешались с диким, захлёбывающимся рычанием Сэма. Всё произошло так неожиданно, что жертва Сэма не успела отскочить, и Сэм вцепился прямо в мясистое бедро. На этот раз Сэм схватил удачно и, оторвавшись от земли, повис на ноге всей тяжестью тела.
На душераздирающий человеческий крик бежали люди.
Удары сыпались на голову Сэма. Он закрыл глаза и сильнее сжал челюсти. Как будто что-то хрустнуло в них и сдавило их так, что зубы заскрипели о зубы. Сэм застонал от боли, а челюсти сжимались и сжимались.
— О-о-а-а! Помогите, помогите!
— Бей по голове его, по голове!
— Я знаю эту собаку, соседская она! Они, ироды, аж на меня её травили! — громче всех кричала старушка. — Люди, люди, помогите, человека убивают, ироды проклятые!
Глаза Сэма заливала кровь, он только чувствовал, как его зубы всё глубже вгрызаются в живое, ненавистное мясо. Его враг упал и стал биться, пытаясь оторвать от себя Сэма. Кто-то схватил его за туловище и тянул прочь, но челюсти уже не могли разжаться. Страшная боль всё росла, и от этого Сэм визжал и скулил.
Вокруг них собралась большая толпа.
— Это как это добрым людям такая мука от мерзкой твари! — кричала старушка.
— Он сегодня утром меня укусить хотел! — подхватил подбежавший дворник и ударил Сэма лопатой.
— «Скорую» надо вызвать!
— Чёртова собака, на людей бросается!
— Убейте её, убейте чем-нибудь, а так не отцепишь!
— Да скорей же, скорей… Нож, там у тебя… — застонала жертва Сэма.
Лезвие обожгло натянутое горло Сэма.
— Мама, зачем собаку убивают? — вскрикнул детский голос.
— Она сама во всём виновата, сынок! Она бешеная, на людей кидается и тебя бы укусила. Пойдём, пойдём, не смотри!
С трудом разжали пасть уже мёртвого неподвижного Сэма.
Раненому вынесли воды, перевязали ногу. От «скорой помощи» он отказался. Второй его спутник быстро поймал машину, и они уехали. А когда возмущённые люди вместе с домоуправом заколотили и зазвонили в квартиру хозяев Сэма, дверь в ней оказалась открытой. В комнатах в беспорядке были разбросаны вещи.

ЛЮСЬЕНА
 В приамурском селе Филипповка у колхозников Потеряхиных жила корова. Казалось бы, ну и что? Есть ли животное более обыкновенное? Да и какой уважающий себя колхозник не держит в наше время корову?
Тракторист Потеряхин любил говорить про свою корову:
— Ну — это личность!
Корова Люська была абсолютно чёрная и очень худая. На её острой хребтине можно было пересчитать все позвонки, а мускулистые длинные ноги развивали такую скорость, что и хорошая лошадь позавидует. Рога у Люськи выросли длинные, острые и величаво загнутые вверх, в больших глазах не было и тени коровьей покорности, а нижняя белая губа, единственное белое пятно на ней, придавала её морде гордое и своевольное выражение.
Молока Люська давала мало, телят приносила редко и вообще оказалась очень невыгодной коровой. Один характер чего стоил! Свои, деревенские, любили посмеяться над Потеряхиными, Что вот, мол, носятся с никчемной скотиной, как с писаной торбой.
Вообще-то настоящее имя у Люськи было Люсьена. Давно, когда Люська была симпатичной весёлой тёлочкой, так её назвала Ирина, дочь Потеряхиных, в то далёкое время студентка филфака. Теперь Ирина давно уже Ирина Алексеевна и работает в школе завучем, ну и Люсьену давно называют просто, по-родственному — Люська. Изредка, когда Ирина Алексеевна приезжает в деревню к родителям с детьми и мужем, Люська слышит от неё непривычное, ласкающее слух «Люсьена-а» и одобрительно мычит в ответ.
Одной из самых ярких черт в характере Люськи была ненависть к пастуху и стаду. Когда Люська была совсем молодой, хозяева выгоняли её в стадо, и тогда для пастуха наступало тяжёлое времечко. Люська задирала всех подряд, носилась, как бешеная, среди коров, прыгала через овец и коз, угрожающе наклонив голову с острыми рогами. На удары хлыста она не обращала внимания, а то и пастуха пыталась боднуть. В конце концов и вовсе убегала и бродила до самого вечера одна.
Скоро все деревенские пастухи стали жаловаться на потеряхинскую бестию, и пришлось Потеряхиным пасти Люську отдельно. Сначала хозяйка боялась за неё, пыталась привязывать на длинную верёвку, но верёвку Люська рвала, перетирала о ствол дерева и уходила неведомо куда. Вечером, ко времени дойки, Люська всегда стояла у своих ворот и громко, радостно мычала до тех пор, пока ей не отворяли.
Постепенно хозяева научились доверять Люське, и с утра выпускали корову за ворота. С годами Люська вообще перестала выходить за околицу села.
Обычно коровы не любят собак, да и собаки всегда настроены погонять коров с весёлым лаем или цапнуть потихоньку за заднюю ногу. И не дай бог если какой бычок или корова забредёт в чужой двор: тут уж хозяйские собаки бросались на них без всякого зазрениясовести. Но странная животина Люська нашла общий язык со всеми деревенскими псами. Её никто не трогал. Может, опасались её острых рогов или не хотелось гнаться, высунув язык, за стремительно убегающей Люськой. Но только собаки не лаяли на неё и не хватали за хвост и за ноги. Люська, быстро почувствовав себя безнаказанной, с каждым днём вела себя всё смелее и повадилась заходить в чужие дворы.
В чужом дворе всегда найдётся чем поживиться. То хозяйка ненароком оставит на крыльце ведро с отрубями, то в миске у цепного пса залежится немного каши, то куры не успеют расклевать свой корм, а Люська уже здесь. Забредёт во двор, унюхает съедобное большим, мокрым фиолетовым носом и вмиг слижет. Тут же выскочит за ворота, по пути успев прихватить губами пучок цветов или огородной рассады.
Днём обычно во дворе никого нет. И долгое время никто не замечал её проделок. Собаки проявляли солидарность, не тявкали. Скоро Люська распознала, что много вкусного и интересного можно найти на огороде. И что можно войти не только в открытые ворота, но и в закрытые, ибо Люська научилась открывать даже самые хитрые запоры. То петлю, накинутую на калитку, подденет рогами, то языком крючок смахнёт или схватит зубами железную ручку. А то и просто надавит легонько лбом и со скрипом или без скрипа откроет чужие ворота.
Старушки, что весь день сидят дома, первые заметили Люськины проделки. Только и слышалось то в одном, то в другом дворе:
— Ах ты, воровка окаянная!
— Ну, пошла, пошла, оглобля черномазая!
— У-у, блудница!
Скоро вся деревня заговорила о воровке. Посыпались на Потеряхиных жалобы, ругань и смех. Дошло до того, что председатель колхоза остановил как-то главу семьи на дворе у элеватора со словами: «Уйми свою корову, Алексей!»
А как её уймёшь? Давно известен упрямый и несносный Люськин характер. Пришлось хозяину угонять корову далеко от деревни на сырые луга, где было много травы, колючей осоки и, конечно, слепней и оводов. Так и ездили они: впереди трактор, а за ним на длинной верёвке, вприскок, Люська. Вечером хозяин за ней приезжал, и они скакали обратно. Понятно, что от таких скачек Люська ещё больше исхудала, стала ещё более поджарой и мускулистой.
Однажды, когда Алексей Потеряхин приехал за коровой, он не нашёл её. Обегал всю болотину, перепугавшись, что Люська, может, где-то утонула. Весь вымок, продрог, охрип, но коровы не нашёл. Люська как сквозь землю провалилась.
Не хотелось домой возвращаться. Как жене сказать, что Люська пропала?! А тут ещё наткнулся Потеряхин на журавлиное гнездо с двумя яйцами и испугался: как только Люське они не попались, затоптала бы или съела! Он знал, что здешние белые журавли— редкие птицы, и долго лежал, затаившись, ждал, когда вернутся на гнездо обеспокоенные родители. Хотя всю жизнь прожил Алексей Потеряхин в Филипповке, а никогда не видал журавлей так близко. До чего же они были прекрасны! И не верилось, что живут они совсем рядом с деревней, среди полей, на которых столько лет он сеет и убирает…
Прошло несколько дней. Люська так и не нашлась. Вдруг приезжают в Филипповку пограничники — и прямо в сельсовет. Не здешняя ли корова там у них объявилась?!
Оказалось, в пятнадцати километрах отсюда Люська набрела на пограничную заставу. Увидев проволочные заграждения, обрадовалась. Подумала: может, найдётся чем поживиться. Запуталась в проволоке, сработала сигнализация, завыла сирена, всех пограничников подняла — они-то решили, что это нарушитель переходит границу. И очень удивились, увидев корову. Пока искали Люськиных хозяев, Люська успела прижиться на заставе. Побиралась целый день на кухне, запугала своими внушительными рогами двух местных бурёнок и облазила все закоулки.
Но когда Потеряхин появился на заставе, Люська кинулась к нему, словно собака к хозяину.
Она и в самом деле была привязана к нему, как хорошая собака. Хозяйку Люська уважала и побаивалась, никогда не выказывая к ней особенно нежных чувств. А Потеряхина любила. Иногда во дворе подойдёт вдруг сзади и потрётся своим широким лбом о его спину, да так, что даже не притронется к нему длинными острыми рогами. Знала Люська и рокот потеряхинского трактора и всегда различала его среди множества других таких же машин. Услышав издали знакомый рёв двигателя, она тут же прибегала часто прямо в поле. Шла себе уверенно по только что вспаханной борозде, не обращая внимания на ругань хозяина, чувствовала, что сердится он не по-настоящему. Очень ревновала хозяина ко всем чужим. Если забредала порой на полевой стан во время обеда или видела хозяина в компании мужчин, начинала грозно мычать, нервничать. И механизаторы всерьёз опасались: а вдруг подденет кого-нибудь рогами? Смеялись:
— Она за тебя в огонь и в воду!
Случилось это весной, когда только-только сошёл снег, оголив пока безжизненные пожелтелые пространства болотистых низин.
Ещё с вечера подул сильный ветер, а наутро он совсем разбушевался, нагнал на небо пелену. Ветер нёс по полям пуки прошлогодней соломы, ломал ветви редких в окрестностях Филипповки деревьев, вздыбливал рыбьей чешуёй многочисленные весенние озёра в низинах.
Но в полях натужно, сопротивляясь ветру, гудели трактора, яростно вгрызались в жирную, тёмную, пропитанную влагой весеннюю землю.
Пришло время обеда. Алексей Потеряхин остановил двигатель и уже было собрался спрыгнуть на землю, как вдруг ветер ударил в лицо горьковатой волной дыма. Что-то горело. В голове пронеслось смятенно: горит в деревне, на ферме?! И вдруг он понял— горела большая низина, что начиналась на краю его поля. Значит, снова кто-то поджёг из филипповских.
Сколько лет уже Алексей Потеряхин тушил весенние палы! Сколько он пытался внушить своему председателю, что не дело это — жечь сухую траву, в которой по весне полным-полно всякой живности!
Потеряхин выругался, в бессилии сжав кулаки, и вдруг вспомнил, как прошлой весной видел он в той низине журавлиную пару. А что, если и в этот год они вернулись на старое гнездо?!
Взревел трактор и пополз на край поля, раскидывая комьями землю, то и дело клюя её носом. Двигатель ревел оглушительно, из последних сил.
«Ещё не всё горит, ещё можно успеть… Может, у них уже птенцы, может, успею спасти!» — думал Потеряхин и давил, давил на рычаги…
Вот тут-то и услышала Люська истошный, неспокойный рёв хозяйского трактора. Замерла у неё на зубах извечная жвачка, и она насторожила большие, пушистые изнутри уши, близоруко вглядываясь в даль. И по привычке, резвым своим галопом, помчалась Люська к хозяину.
Панический страх всякой скотины перед дымом и огнём вдруг исчез, когда Люська увидела скрывшегося в завесе дыма хозяина. Она пошла за ним, не раздумывая, и тут же потеряла его из виду.
Шарахнулась от огня в другую сторону, ослепнув от едкого дыма. Охваченная ужасом, она жалобно замычала.
«Господи, неужели Люська!» — подумал Потеряхин. Сквозь треск и гул пламени он слышал Люськино мычание, но не мог понять, где она. Да где было понимать — самому бы выбраться из этого ада. Журавлиного гнезда не было.
— Люська! Люська! — охрипшим, сорвавшимся голосом кричал он, проклиная всё на свете.
Прыгая через огонь, он обжёг ногу. И сзади, и справа, и слева доносилось до него жалобное мычание, а он, обессиленный, вырвался наконец из плена огня и дыма, с трудом забрался на бугор и упал, уткнувшись лицом в холодную землю. И кричал снова:
— Люська! Люська! Люсь-е-на-а!
Не в силах слышать мычание пропавшей Люськи, зажимал уши, но голос её по-прежнему сверлил его мозг.
Внизу полыхал пожар. Сквозь дым бесстрастно и холодно светлело оловянное, похожее на бельмо солнце.
Он сидел, тупо глядя на огонь, перепачканный землёй и сажей, когда из-за бугра вдруг вышла, поводя опалёнными боками, Люсьена. Она подошла к Потеряхину и ткнулась мордой в его плечо. Он молча обнял её шею, пахнущую палёной шерстью.
В приамурском селе Филипповка у колхозников Потеряхиных жила корова. Казалось бы, ну и что? Есть ли животное более обыкновенное? Да и какой уважающий себя колхозник не держит в наше время корову?
Тракторист Потеряхин любил говорить про свою корову:
— Ну — это личность!
Корова Люська была абсолютно чёрная и очень худая. На её острой хребтине можно было пересчитать все позвонки, а мускулистые длинные ноги развивали такую скорость, что и хорошая лошадь позавидует. Рога у Люськи выросли длинные, острые и величаво загнутые вверх, в больших глазах не было и тени коровьей покорности, а нижняя белая губа, единственное белое пятно на ней, придавала её морде гордое и своевольное выражение.
Молока Люська давала мало, телят приносила редко и вообще оказалась очень невыгодной коровой. Один характер чего стоил! Свои, деревенские, любили посмеяться над Потеряхиными, Что вот, мол, носятся с никчемной скотиной, как с писаной торбой.
Вообще-то настоящее имя у Люськи было Люсьена. Давно, когда Люська была симпатичной весёлой тёлочкой, так её назвала Ирина, дочь Потеряхиных, в то далёкое время студентка филфака. Теперь Ирина давно уже Ирина Алексеевна и работает в школе завучем, ну и Люсьену давно называют просто, по-родственному — Люська. Изредка, когда Ирина Алексеевна приезжает в деревню к родителям с детьми и мужем, Люська слышит от неё непривычное, ласкающее слух «Люсьена-а» и одобрительно мычит в ответ.
Одной из самых ярких черт в характере Люськи была ненависть к пастуху и стаду. Когда Люська была совсем молодой, хозяева выгоняли её в стадо, и тогда для пастуха наступало тяжёлое времечко. Люська задирала всех подряд, носилась, как бешеная, среди коров, прыгала через овец и коз, угрожающе наклонив голову с острыми рогами. На удары хлыста она не обращала внимания, а то и пастуха пыталась боднуть. В конце концов и вовсе убегала и бродила до самого вечера одна.
Скоро все деревенские пастухи стали жаловаться на потеряхинскую бестию, и пришлось Потеряхиным пасти Люську отдельно. Сначала хозяйка боялась за неё, пыталась привязывать на длинную верёвку, но верёвку Люська рвала, перетирала о ствол дерева и уходила неведомо куда. Вечером, ко времени дойки, Люська всегда стояла у своих ворот и громко, радостно мычала до тех пор, пока ей не отворяли.
Постепенно хозяева научились доверять Люське, и с утра выпускали корову за ворота. С годами Люська вообще перестала выходить за околицу села.
Обычно коровы не любят собак, да и собаки всегда настроены погонять коров с весёлым лаем или цапнуть потихоньку за заднюю ногу. И не дай бог если какой бычок или корова забредёт в чужой двор: тут уж хозяйские собаки бросались на них без всякого зазрениясовести. Но странная животина Люська нашла общий язык со всеми деревенскими псами. Её никто не трогал. Может, опасались её острых рогов или не хотелось гнаться, высунув язык, за стремительно убегающей Люськой. Но только собаки не лаяли на неё и не хватали за хвост и за ноги. Люська, быстро почувствовав себя безнаказанной, с каждым днём вела себя всё смелее и повадилась заходить в чужие дворы.
В чужом дворе всегда найдётся чем поживиться. То хозяйка ненароком оставит на крыльце ведро с отрубями, то в миске у цепного пса залежится немного каши, то куры не успеют расклевать свой корм, а Люська уже здесь. Забредёт во двор, унюхает съедобное большим, мокрым фиолетовым носом и вмиг слижет. Тут же выскочит за ворота, по пути успев прихватить губами пучок цветов или огородной рассады.
Днём обычно во дворе никого нет. И долгое время никто не замечал её проделок. Собаки проявляли солидарность, не тявкали. Скоро Люська распознала, что много вкусного и интересного можно найти на огороде. И что можно войти не только в открытые ворота, но и в закрытые, ибо Люська научилась открывать даже самые хитрые запоры. То петлю, накинутую на калитку, подденет рогами, то языком крючок смахнёт или схватит зубами железную ручку. А то и просто надавит легонько лбом и со скрипом или без скрипа откроет чужие ворота.
Старушки, что весь день сидят дома, первые заметили Люськины проделки. Только и слышалось то в одном, то в другом дворе:
— Ах ты, воровка окаянная!
— Ну, пошла, пошла, оглобля черномазая!
— У-у, блудница!
Скоро вся деревня заговорила о воровке. Посыпались на Потеряхиных жалобы, ругань и смех. Дошло до того, что председатель колхоза остановил как-то главу семьи на дворе у элеватора со словами: «Уйми свою корову, Алексей!»
А как её уймёшь? Давно известен упрямый и несносный Люськин характер. Пришлось хозяину угонять корову далеко от деревни на сырые луга, где было много травы, колючей осоки и, конечно, слепней и оводов. Так и ездили они: впереди трактор, а за ним на длинной верёвке, вприскок, Люська. Вечером хозяин за ней приезжал, и они скакали обратно. Понятно, что от таких скачек Люська ещё больше исхудала, стала ещё более поджарой и мускулистой.
Однажды, когда Алексей Потеряхин приехал за коровой, он не нашёл её. Обегал всю болотину, перепугавшись, что Люська, может, где-то утонула. Весь вымок, продрог, охрип, но коровы не нашёл. Люська как сквозь землю провалилась.
Не хотелось домой возвращаться. Как жене сказать, что Люська пропала?! А тут ещё наткнулся Потеряхин на журавлиное гнездо с двумя яйцами и испугался: как только Люське они не попались, затоптала бы или съела! Он знал, что здешние белые журавли— редкие птицы, и долго лежал, затаившись, ждал, когда вернутся на гнездо обеспокоенные родители. Хотя всю жизнь прожил Алексей Потеряхин в Филипповке, а никогда не видал журавлей так близко. До чего же они были прекрасны! И не верилось, что живут они совсем рядом с деревней, среди полей, на которых столько лет он сеет и убирает…
Прошло несколько дней. Люська так и не нашлась. Вдруг приезжают в Филипповку пограничники — и прямо в сельсовет. Не здешняя ли корова там у них объявилась?!
Оказалось, в пятнадцати километрах отсюда Люська набрела на пограничную заставу. Увидев проволочные заграждения, обрадовалась. Подумала: может, найдётся чем поживиться. Запуталась в проволоке, сработала сигнализация, завыла сирена, всех пограничников подняла — они-то решили, что это нарушитель переходит границу. И очень удивились, увидев корову. Пока искали Люськиных хозяев, Люська успела прижиться на заставе. Побиралась целый день на кухне, запугала своими внушительными рогами двух местных бурёнок и облазила все закоулки.
Но когда Потеряхин появился на заставе, Люська кинулась к нему, словно собака к хозяину.
Она и в самом деле была привязана к нему, как хорошая собака. Хозяйку Люська уважала и побаивалась, никогда не выказывая к ней особенно нежных чувств. А Потеряхина любила. Иногда во дворе подойдёт вдруг сзади и потрётся своим широким лбом о его спину, да так, что даже не притронется к нему длинными острыми рогами. Знала Люська и рокот потеряхинского трактора и всегда различала его среди множества других таких же машин. Услышав издали знакомый рёв двигателя, она тут же прибегала часто прямо в поле. Шла себе уверенно по только что вспаханной борозде, не обращая внимания на ругань хозяина, чувствовала, что сердится он не по-настоящему. Очень ревновала хозяина ко всем чужим. Если забредала порой на полевой стан во время обеда или видела хозяина в компании мужчин, начинала грозно мычать, нервничать. И механизаторы всерьёз опасались: а вдруг подденет кого-нибудь рогами? Смеялись:
— Она за тебя в огонь и в воду!
Случилось это весной, когда только-только сошёл снег, оголив пока безжизненные пожелтелые пространства болотистых низин.
Ещё с вечера подул сильный ветер, а наутро он совсем разбушевался, нагнал на небо пелену. Ветер нёс по полям пуки прошлогодней соломы, ломал ветви редких в окрестностях Филипповки деревьев, вздыбливал рыбьей чешуёй многочисленные весенние озёра в низинах.
Но в полях натужно, сопротивляясь ветру, гудели трактора, яростно вгрызались в жирную, тёмную, пропитанную влагой весеннюю землю.
Пришло время обеда. Алексей Потеряхин остановил двигатель и уже было собрался спрыгнуть на землю, как вдруг ветер ударил в лицо горьковатой волной дыма. Что-то горело. В голове пронеслось смятенно: горит в деревне, на ферме?! И вдруг он понял— горела большая низина, что начиналась на краю его поля. Значит, снова кто-то поджёг из филипповских.
Сколько лет уже Алексей Потеряхин тушил весенние палы! Сколько он пытался внушить своему председателю, что не дело это — жечь сухую траву, в которой по весне полным-полно всякой живности!
Потеряхин выругался, в бессилии сжав кулаки, и вдруг вспомнил, как прошлой весной видел он в той низине журавлиную пару. А что, если и в этот год они вернулись на старое гнездо?!
Взревел трактор и пополз на край поля, раскидывая комьями землю, то и дело клюя её носом. Двигатель ревел оглушительно, из последних сил.
«Ещё не всё горит, ещё можно успеть… Может, у них уже птенцы, может, успею спасти!» — думал Потеряхин и давил, давил на рычаги…
Вот тут-то и услышала Люська истошный, неспокойный рёв хозяйского трактора. Замерла у неё на зубах извечная жвачка, и она насторожила большие, пушистые изнутри уши, близоруко вглядываясь в даль. И по привычке, резвым своим галопом, помчалась Люська к хозяину.
Панический страх всякой скотины перед дымом и огнём вдруг исчез, когда Люська увидела скрывшегося в завесе дыма хозяина. Она пошла за ним, не раздумывая, и тут же потеряла его из виду.
Шарахнулась от огня в другую сторону, ослепнув от едкого дыма. Охваченная ужасом, она жалобно замычала.
«Господи, неужели Люська!» — подумал Потеряхин. Сквозь треск и гул пламени он слышал Люськино мычание, но не мог понять, где она. Да где было понимать — самому бы выбраться из этого ада. Журавлиного гнезда не было.
— Люська! Люська! — охрипшим, сорвавшимся голосом кричал он, проклиная всё на свете.
Прыгая через огонь, он обжёг ногу. И сзади, и справа, и слева доносилось до него жалобное мычание, а он, обессиленный, вырвался наконец из плена огня и дыма, с трудом забрался на бугор и упал, уткнувшись лицом в холодную землю. И кричал снова:
— Люська! Люська! Люсь-е-на-а!
Не в силах слышать мычание пропавшей Люськи, зажимал уши, но голос её по-прежнему сверлил его мозг.
Внизу полыхал пожар. Сквозь дым бесстрастно и холодно светлело оловянное, похожее на бельмо солнце.
Он сидел, тупо глядя на огонь, перепачканный землёй и сажей, когда из-за бугра вдруг вышла, поводя опалёнными боками, Люсьена. Она подошла к Потеряхину и ткнулась мордой в его плечо. Он молча обнял её шею, пахнущую палёной шерстью.

У СОПКИ СТЕРЕГУЩЕЙ РЫСИ
Весной на разливах Амура видимо-невидимо всякой птицы. Кричат и танцуют на маленьких островках, покрытых жёлтой осокой, журавли; с шумом плюхаются в воду большие стаи уток; неуклюжие чёрные лысухи то и дело заныривают под воду, а хохлатые чомги держатся поближе к тростниковым зарослям. Лебеди, надменные, неторопливые, плавают особняком. Потом появляются гусиные стаи и приносят с собой ещё больше беспокойства и шума. Но птицы остаются здесь недолго: многим из них ещё лететь и лететь на север, к родным берегам. А здесь, на приамурских озёрах, им нужно лишь отдохнуть и набраться сил.

1
Как-то в апреле егерь заказника Николай Шитов подобрал на озере молодого гуся-однолетку с перебитым крылом. Это был крупный красивый гуменник[6] с лакированным чёрным клювом и плотным густо-серым лоснящимся пером. Глаза у гуся были тёмно-коричневые и умные. Николай с трудом поймал его. Удивительно сильный и увёртливый, гусь сумел-таки хватить его за палец так больно, что Николай потом долго не мог пошевелить им. Шитов жил в большом казацком посёлке Пашкино на самом берегу Амура. Если приходила большая вода, то она заливала весь огород Шитовых и подступала к сараю. Жена Николая, Нина, увидев гуся, сказала: — Жирный какой! Вот тебе и подарочек ко дню рождения. В духовочку его… — Зачем сразу в духовочку? Гусей, что ли, на дворе нет? — А что, ты его просто так держать хочешь? Вот ещё, корм переводить-то! — сердито ответила Нина и пошла к корове. За домом стояла пустая, довольно просторная клеть, там раньше жили цыплята. Туда Николай и пустил раненого пленника. Гусь вырвался из рук, забился в угол, злобно поблёскивая глазами и шипя. — Ну что шипишь? Не я виноват, братец, что лететь не можешь. Пашкой тебя назову, раз ты в Пашкине поселился. А вот что делать с тобой? А тут сосед, шофёр Серёга, заглянул: — Повезло тебе, Колян! Пригласишь, что ли, на обед? — Да что вы все — с голоду подыхаете? — неожиданно разозлился Николай и тут же решил: —Вылечу и выпущу вам всем назло! Ясно? Так решилась Пашкина судьба. Крыло у него было перебито несильно. Шитов крепко забинтовал его, и через некоторое время оно совсем зажило. Первые недели Пашка не вылезал из своего угла. Со страхом смотрел он вокруг, слушал разноголосый шум хозяйского двора. Наглые куры то и дело подходили к сетке, заглядывали внутрь, а петух бессовестно орал над самым Пашкиным ухом. Во дворе было столько всякой живности, что у Пашки поначалу голова шла кругом: визжали и носились по двору несколько грязных поросят, серая кошка с выводком котят гоняла воробьёв и кур, утром и вечером мимо Пашкиной клетки проходила громадная корова Малинка. Но самым страшным были собаки — одна большая и две маленькие. Они всё время норовили подобраться к Пашке, лаяли и скалили зубы. Оживал Пашка только на рассвете, когда тих и пуст был двор. Рядом, над Амуром, часто кричали пролетающие гусиные стаи, и Пашка отчаянно звал их во весь свой мощный и чистый голос. Но гуси летели мимо. А скоро и вовсе исчезли — подались к своим гнездовьям на север. Правда, какие-то птицы, похожие на его сородичей, появлялись то и дело на дворе. Но разве это были настоящие гуси?! Большие, толстые, пёстрые, с жёлтыми клювами, они и не думали летать, только гоготали, просили есть и ссорились между собой. И Пашка возмущённо шипел в ответ. Постепенно Пашка привык к Николаю, который кормил его, наливал в тазик чистую воду и ласково разговаривал с ним. Случалось, Николай уезжал в тайгу, и тогда корм Пашке бросала Нина. В ответ на Пашкино шипение она ворчала: — У-у, змей! Всё равно осенью зажарим, узнаешь у меня! И всегда забывала сменить грязную воду в миске.2
Пришли жаркие долгие летние дни. Целыми днями в реке купались ребятишки. Ещё недавно по-весеннему дымчатые, сопки вокруг посёлка стали густо-изумрудными — буйно и скоро поднимались амурские цветы и травы. Птицы замолчали, все были заняты подрастающими птенцами. И только на хозяйском дворе царило обычное оживлённое безделье. Котята у серой кошки стали совсем большими и всё время сидели у Пашкиной клетки. Собаки целыми днями валялись в тени, высунув красные языки, и почти не лаяли. А Пашка так скучал и страдал от одиночества, что однажды в ответ на гоготание дворовых гусей подал свой звонкий, сильный и злой голос. Гуси сразу же насторожились. Гусиную семейку возглавляла старая гусыня. Даже гусак Яшка слушался её. Пятеро их гусят, вылупившихся ещё в начале весны, стали уже большими и самостоятельными. Четверо были толстыми и пёстрыми, а самая маленькая гусыня — белой, без единого пятнышка. Николай звал её Белкой. Четыре Белкиных братца — Желтоклюв, Куцый, Толстяк и Храбрый были очень вздорными молодыми гусаками. Выходя за ворота, они постоянно затевали драки с другими гусиными семействами, то и дело ссорились между собой и ругались со своими родителями. Они считали себя взрослыми, и им не хотелось слушаться родителей. Но старая гусыня не зря так долго жила на свете: была она хитра, увёртлива и умна. К тому же каждый год у неё появлялись красивые здоровые гусята. А иначе разве стала бы их держать практичная и строгая жена Николая Шитова? Гусыня при помощи верного Яшки частенько устраивала своим непослушным сыновьям взбучку. Лишь одна Белка не участвовала в их скандалах, но ей частенько доставалось от самой хозяйки. — И в кого уродилась такая мелкая да тощая? Да… видно, стареют твои мамаша с папашей… — рассуждала Нина, подумывая о том, не обзавестись ли молодой и породистой парой гусей. Странная птица домашний гусь. Как воспоминание о диких предках остались у него большие широкие крылья. Но никогда не манит гуся небесный простор. Он лениво бродит по земле, и порой для полного удовольствия хватает ему и грязной деревенской лужи. А вот Белка была исключением. Сколько раз с гортанным торжествующим криком Белка срывалась вниз с высокого берега и летела некоторое время над водой. Обычно и остальные гуси поддавались её восторгу: громко крича, спрыгивали с обрыва и, с треском хлопая крыльями, тяжело плюхались в воду. А когда Белка видела пролетающих над Амуром диких гусей, больше всего на свете ей хотелось улететь вместе с ними. Но она лишь с тоской вслушивалась в их ясные звонкие крики. Однажды утром Желтоклюв, самый крупный из гусят, поссорился со старым гусаком. Остальные Белкины братья и гусыня подняли страшный шум. И когда раздался голос дикого гуся, все оторопело замолчали, лишь одна Белка тут же ответила ему радостно и робко. Переговаривающихся гусей услышал Шитов и решил выпустить гуменника к своим домашним. Вот только перья на одном крыле надо срезать. А то ещё улетит ненароком. Все гуси, кроме Белки, тут же нагнули шеи и со свистом зашипели. Рядом с ними Пашка казался даже маленьким. Но не успел Желтоклюв цапнуть Пашку своим угрожающе раскрытым жёлтым клювом, как тут же опрокинулся на спину от удара сильного Пашкиного крыла. Защищая своего гусёнка, набросились на Пашку старые гуси, а с ними Толстяк, Храбрый да Куцый, но, не в пример им, неуклюжим, гуменник был стремителен и ловок, бил метко и клевал больно. Увидев гусиную свару, Шитов даже языком прищёлкнул:
— Ну даёт! Сам чёрт с ним не сладит! — и всё же разогнал гусей в разные углы. — Ничего, свыкнетесь…
Побитый и отверженный, серый гусь отошёл к своей клетке, которая казалась ему более привычной, чем этот негостеприимный двор.
Что за странные эти гуси, такие большие и, казалось бы, сильные, а на деле!.. Не годятся в подмётки даже самому слабому гуменнику из его дикой стаи… Быть может, так думал серый гусь Пашка, презрительно и гордо поглядывая на гусей тёмным глазом. И когда к нему вдруг приблизилась маленькая белая гусыня, он хотел злобно зашипеть на неё, но она так беспомощно прикрыла глаза и съёжилась, что он остановился. А она была красивая: маленькая, белая-белая, как снег. И главное, она не хотела ему зла.
Так Белка и Пашка подружились.
Увидев гусиную свару, Шитов даже языком прищёлкнул:
— Ну даёт! Сам чёрт с ним не сладит! — и всё же разогнал гусей в разные углы. — Ничего, свыкнетесь…
Побитый и отверженный, серый гусь отошёл к своей клетке, которая казалась ему более привычной, чем этот негостеприимный двор.
Что за странные эти гуси, такие большие и, казалось бы, сильные, а на деле!.. Не годятся в подмётки даже самому слабому гуменнику из его дикой стаи… Быть может, так думал серый гусь Пашка, презрительно и гордо поглядывая на гусей тёмным глазом. И когда к нему вдруг приблизилась маленькая белая гусыня, он хотел злобно зашипеть на неё, но она так беспомощно прикрыла глаза и съёжилась, что он остановился. А она была красивая: маленькая, белая-белая, как снег. И главное, она не хотела ему зла.
Так Белка и Пашка подружились.
3
Катилось к концу жаркое и доброе лето. В палисадниках возле домов понурили отяжелевшие головы ещё недавно весёлые подсолнухи. В тайге зрела разная ягода. На болота всё чаще выбирались медведи — полакомиться сочной фиолетовой голубицей. По усыпанному галькой берегу реки бегали кулички-фифишки, уже начавшие свой путь на юг из далёких северных тундр. Речная вода ещё не остыла, и по утрам белый, как парное молоко, туман клубился над Амуром, иногда покрывая собой и Пашкино, и противоположный берег, на котором мохнатой изумрудной громадой высилась сопка, похожая на приготовившуюся к прыжку рысь. Пашка вполне свыкся со своей жизнью и с гусиной семьёй, в которую он невольно вошёл. Как и все на свете гуси, Пашка был стайной птицей, не было для него ничего тяжелее, чем одиночество. А теперь он был не одинок, с ним была Белка, и он мог постоять, если понадобится, и за неё и за себя. На пастбище за посёлком разные гусиные семьи часто объединялись, бродили одной большой стаей. А Пашка с Белкой всё время держались в стороне или уплывали далеко по Амуру. Среди бегущей куда-то воды Пашке часто казалось, что он свободен. Но увы, предусмотрительно подрезанное крыло не давало ему улететь туда, куда неотступно стремилось его сердце. И рядом плавала Белка, которая тоже не могла подняться с ним в небесные дали, хотя у неё и были большие крылья. Единственное, что они могли, — это срываться вниз с высокого берега. Они летели, крыло к крылу, наслаждаясь недолгим мигом полёта, и их крики всегда будоражили гусей. Шитов радовался, что дикий гусь прижился у него, и если бы не пилила его Нина, то всё было бы прекрасно. А она, как нарочно, невзлюбила серого гуся, да и Пашка отвечал ей тем же. Если Николай мог кормить его с рук, то на Нину гусь всегда злобно и высокомерно шипел, и злоба эта рождала с другой стороны удвоенную злобу. — Ну вот что, муженёк, — как-то за обедом решительно сказала Нина, — ты хочешь, чтобы твой дурацкий гусак всех наших и соседских гусей с собой увёл?! Осень на носу, он скоро беситься начнёт. Уплывёт и остальных уведёт! Мне эту Белку не жалко, что с неё возьмёшь… А вот другие… Хватит, побаловался. Давай-ка всё же его на жаркое. Вон смотри, отъелся на дармовом-то! — Да ты чё, Нинк! С ума сошла! Никуда он от Белки не денется. Совесть надо иметь — пригрели птицу, а теперь в котёл?! — Николай сердито отложил ложку. — Ну что ты за жена такая сварливая! — Уж какая есть, сам выбирал! — Нинка поджала губы. — Ладно, так и быть, пусть живёт пока. Только Белку я жалеть не буду. Остальные гусята к зиме ещё жирнее станут. А эту… Вот у свекровушки моей именины скоро. — Ты брось шутить, Нинка! Белку не трогай. Я сказал! — возвысил Шитов голос. — Ох, ох, он сказал! — проворчала Нина и вышла.4
На исходе были прозрачные, светлые, томительно-печальные сентябрьские дни. Сопка Стерегущей Рыси стала жёлто-оранжевой. Вдали за сырыми марями кричали на убранных полях журавли. Однажды под вечер высоко-высоко над посёлком показался узкий гусиный клин. Гуси снизились над Амуром, и уже можно было ясно различить их плотные упругие тела, их черноклювые головы и широкие сильные крылья. Пашка давно увидел своих сородичей зоркими глазами. Услышал их далёкие, падающие вниз голоса. Он растерялся, смешался, затрепетал. Завертелся на месте, словно подбитый кем-то, захлопал крыльями в безумной надежде и безумном стремлении взлететь. Закричал отчаянно и безнадёжно, но гуси не услышали его, не опустились пониже, и скоро узкий клин растаял между острыми ушами Стерегущей Рыси. Пашка растерянно топтался на пыльной дороге, не замечая, что Белка ласково и настойчиво трогает клювом его плечо. Сгорбившись, безразлично и вяло он поплёлся за маленькой гусыней. Во дворе было по-вечернему оживлённо и шумно. Из сарая басом помыкивала корова Малинка, ожидая, когда её подоят. Собаки затеяли у крыльца весёлую грызню. Петух сгонял кур на ночёвку, а гусиная семейка дружно галдела в ожидании ужина, который каждый вечер выносила им хозяйка. За лето молодые гусаки стали такими толстыми и тяжёлыми, что даже махать крыльями им было лень. Все дни они теперь проводили за воротами, на деревенской улице, купались в глубоких и грязных осенних лужах и были очень довольны жизнью. Лишь серый гуменник и Белка по-прежнему уходили далеко за посёлок и вечером возвращались обратно. Когда Нина бросала в кормушку пшеничное варево и гуси, отталкивая друг друга, кидались к ней, Пашка и Белка всегда оставались в стороне, словно и голодны не были. И подходили обычно, когда кормушка пустела, торопливо клевали остатки, причём серый гусь старался, чтобы больше досталось Белке.
После того как открылся сезон охоты, у Николая Шитова забот и беспокойства заметно прибавилось. Густо пошла на юг разная птица. На промысел выходили все кому не лень. Стреляли обычно без всяких правил. Теперь Николай надолго уезжал в дальний участок заказника, чтобы охранять его от браконьеров. А Нина оставалась в доме полновластной хозяйкой.
В тот вечер, когда Пашка увидел в небе своих диких братьев, тоска охватила его, и всё стало нестерпимо неприятным: и двор, и сарай, и гусиная семья. Даже не взглянув на кормушку, он забился в тёмный угол сарая и спрятал голову под крыло. Белка долго топталась возле него, грустно и непонимающе поскрипывая на своём гусином языке. Но Пашка даже не вынул головы из-под крыла, и Белке пришлось уйти. Пашка было задремал, погружаясь в полузабытые сны. Виделось ему небо и земля далеко внизу, причудливая, подёрнутая дымкой. И чувствовал он настойчивую силу ветра, бьющего по его крыльям. И какой-то назойливый крик доносился до него, тревожный, молящий о чём-то, но Пашка всё не мог понять, откуда он. Мучительно проснулся, поднял голову, но крик не повторился. Лишь на дворе гоготали, как всегда, Желтоклюв, Толстяк да Храбрый. Пашка снова увидел себя в сарае рядом с дремлющими курами на грязной, затоптанной земле, а не в том волшебном небе…
Не знал он, что это кричала, молила его о помощи маленькая белая гусыня, которую он потерял навсегда. Не знал, что у Нинкиной свекрови завтра день рождения и Нинка не хотела разоряться жирным гусем. А вот тощей Белки ей было не жалко. Не знал он и того, что, вернувшись домой, Николай Шитов огорчился, рассердился и чуть не побил Нинку.
Пашка долго искал маленькую Белку. Никак не мог понять, куда она исчезла. Он искал её за посёлком и на реке, подолгу кричал, думая, что она услышит его и найдётся. Сумрачная, осенняя тоска поселилась в нём, тоска по маленькой белой гусыне, и он снова и снова звал её.
Но Белка так и не отозвалась. Без Белки Пашка потерял свою покладистость и во что бы то ни стало пытался уйти со двора. Ничто теперь не держало его здесь. И голос, сидящий в нём, звал его в дорогу. Не по небу, так по земле — на юг, через бурный Амур, к сопке Стерегущей Рыси, в ту безбрежную даль, в которой исчез узкий гусиный клин…
И снова Пашка оказался в своей клетке. Чтобы он не замёрз, Шитов смастерил ему тёплый домик, а к зиме и вовсе перетащил клетку в сарай.
За лето молодые гусаки стали такими толстыми и тяжёлыми, что даже махать крыльями им было лень. Все дни они теперь проводили за воротами, на деревенской улице, купались в глубоких и грязных осенних лужах и были очень довольны жизнью. Лишь серый гуменник и Белка по-прежнему уходили далеко за посёлок и вечером возвращались обратно. Когда Нина бросала в кормушку пшеничное варево и гуси, отталкивая друг друга, кидались к ней, Пашка и Белка всегда оставались в стороне, словно и голодны не были. И подходили обычно, когда кормушка пустела, торопливо клевали остатки, причём серый гусь старался, чтобы больше досталось Белке.
После того как открылся сезон охоты, у Николая Шитова забот и беспокойства заметно прибавилось. Густо пошла на юг разная птица. На промысел выходили все кому не лень. Стреляли обычно без всяких правил. Теперь Николай надолго уезжал в дальний участок заказника, чтобы охранять его от браконьеров. А Нина оставалась в доме полновластной хозяйкой.
В тот вечер, когда Пашка увидел в небе своих диких братьев, тоска охватила его, и всё стало нестерпимо неприятным: и двор, и сарай, и гусиная семья. Даже не взглянув на кормушку, он забился в тёмный угол сарая и спрятал голову под крыло. Белка долго топталась возле него, грустно и непонимающе поскрипывая на своём гусином языке. Но Пашка даже не вынул головы из-под крыла, и Белке пришлось уйти. Пашка было задремал, погружаясь в полузабытые сны. Виделось ему небо и земля далеко внизу, причудливая, подёрнутая дымкой. И чувствовал он настойчивую силу ветра, бьющего по его крыльям. И какой-то назойливый крик доносился до него, тревожный, молящий о чём-то, но Пашка всё не мог понять, откуда он. Мучительно проснулся, поднял голову, но крик не повторился. Лишь на дворе гоготали, как всегда, Желтоклюв, Толстяк да Храбрый. Пашка снова увидел себя в сарае рядом с дремлющими курами на грязной, затоптанной земле, а не в том волшебном небе…
Не знал он, что это кричала, молила его о помощи маленькая белая гусыня, которую он потерял навсегда. Не знал, что у Нинкиной свекрови завтра день рождения и Нинка не хотела разоряться жирным гусем. А вот тощей Белки ей было не жалко. Не знал он и того, что, вернувшись домой, Николай Шитов огорчился, рассердился и чуть не побил Нинку.
Пашка долго искал маленькую Белку. Никак не мог понять, куда она исчезла. Он искал её за посёлком и на реке, подолгу кричал, думая, что она услышит его и найдётся. Сумрачная, осенняя тоска поселилась в нём, тоска по маленькой белой гусыне, и он снова и снова звал её.
Но Белка так и не отозвалась. Без Белки Пашка потерял свою покладистость и во что бы то ни стало пытался уйти со двора. Ничто теперь не держало его здесь. И голос, сидящий в нём, звал его в дорогу. Не по небу, так по земле — на юг, через бурный Амур, к сопке Стерегущей Рыси, в ту безбрежную даль, в которой исчез узкий гусиный клин…
И снова Пашка оказался в своей клетке. Чтобы он не замёрз, Шитов смастерил ему тёплый домик, а к зиме и вовсе перетащил клетку в сарай.
5
Потянулись тоскливые, однообразные зимние дни. Что-то странное происходило с гусиной семьёй. Сначала исчез Толстяк, за ним — Храбрый, а потом и Куцый с Желтоклювом… А весной у пары старых гусей вылупилось семь желтовато-серых гусят. Однажды днём из-за сопки Стерегущей Рыси показался гусиный клин. На этот раз гуси с шумом опустились на воду, они радостно галдели и переговаривались. Они отдыхали недолго. Звонкой фанфарой прозвучал голос вожака. Вся стая, разбежавшись на воде, с шумом поднялась в воздух и совсем низко пролетела над посёлком. В это время Пашка неистово бился о сетку, ломая длинные перья, и кричал. Гуси снова не услышали его. Увидев в небе гусиную стаю, Николай бросился к клетке. Он долго боролся с Пашкой, и, когда вылез, крепко сжимая его в руках, вспотевший и измученный, гуси давно пропали из виду. Пашка извивался в его руках, как змей, норовя клюнуть в лицо. Шитов вышел за ворота и отпустил Пашку. Громко крича, гусь побежал и взлетел, стремительно и мощно. Он безошибочно летел вслед за исчезнувшей стаей, скоро превратился в еле различимую точку, и, наконец, небо поглотило его… И снова шумят на весенних амурских разливах извечные странники — перелётные птицы. Плавают, чистят перья и отдыхают, чтобы снова отправиться в путь к тем озёрам, речкам и таёжным распадкам, к тем камышам и зарослям осоки, где каждая из них когда-то появилась на свет. И вместе с ними, догоняя братьев-гусей, летит к своему берегу серый гуменник. От сопки Стерегущей Рыси, от затерявшейся где-то маленькой белой гусыни. Может быть, она давно уже ждёт его там, на родном берегу?

Последние комментарии
1 день 16 часов назад
1 день 21 часов назад
1 день 23 часов назад
2 дней 14 минут назад
2 дней 1 час назад
2 дней 2 часов назад