Встреча на мосту [Хулио Кортасар] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Хулио КОРТАСАР Встреча на мосту
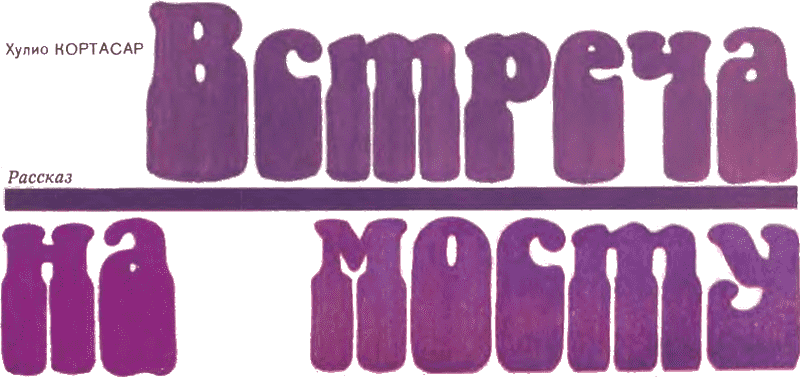
Рассказ

Рисунок Бориса Барабанова
«12 января. Вчера вечером все повторилось опять; я так устала от болтовни и жеманства, и мне страшно надоело розовое шампанское и физиономия Ренато Виньеса, какой он противный, этот губошлепый тюлень, ни дать ни взять портрет Дориана Грея в самом конце романа. Ложась спать, я чувствовала во рту привкус мяты, и передо мной маячило пепельное лицо зевающей мамы (она всегда возвращается из гостей серая и засыпающая на ходу, этакая огромная рыбина, не похожая на мою маму). Нора говорит, что она спокойно засыпает при свете и шуме, и ей не мешает болтовня сестрицы, которая трещит без умолку, раздеваясь перед сном. Везет же людям, а я вот гашу свет и не вижу своих рук, раздеваюсь под шум и гам промелькнувшего дня, пытаюсь заснуть, но внутри меня все звучит этот шум, и я чувствую себя колоколом, морской волной, железной цепью, которой наш пес Рекс грохочет в саду всю ночь напролет. Now lay me down to sleep…[1] Тогда мне приходится читать наизусть стихи или придумывать слова: сначала с буквой «а», потом с «а» и «е», потом с пятью гласными, с четырьмя. Я подбираю слова, состоящие из двух гласных и согласной (она, имя), с тремя согласными и одной гласной (бред, гнев), опять читаю стихи. «Луна в жасминовой шали явилась в кузню к цыганам; И смотрит, смотрит ребенок, и смутен взгляд мальчугана»[2]. Я подыскиваю слова, в которых чередуются три согласные и гласные: «кабала», «лагуна», «лисица», «Геката», «дорога», «утешал». Я лежу так часами, перебираю в памяти слова из четырех, трех, двух букв и, наконец, перехожу к палиндромам. Составляю сначала простенькие: «Огонь — идея единого», «Леди бог обидел»; потом более сложные и красивые: «Манил, а глаза лгали нам», «А, типы, ваша чаша выпита». Или вспоминаю прелестные анаграммы: «Я и Ной, иной я», «Алина Рейес — королева, а…» [3].Эта фраза меня завораживает, она как простирающаяся перед тобой дорога, которой не видно конца. Ведь Алина королева, а…».
«20 января. Порою я знаю, что ей холодно, что она страдает, терпит побои. И меня захлестывает ненависть; я ненавижу ее, руки, швыряющие ее на землю и обрушивающие на нее град ударов, а главное — ее саму, больше всего на свете я ненавижу ее саму, потому что ее бьют, ведь она — это я, а ее бьют. Когда я сплю, или выкраиваю себе платье, или наливаю чай маминым гостям: жене Регулеса или сыну Ривасов, мне бывает полегче. Тогда я не так расстраиваюсь и чувствую, что она — сама по себе, а я — сама; да, она несчастна и одинока и живет так далеко, но все-таки она — хозяйка своей судьбы. Пусть она страдает, мерзнет, я ведь тоже страдаю тут, и, думаю, ее это немного согревает. Наверное, такое же приятное чувство испытываешь, когда шьешь повязки для еще здоровых и невредимых солдат, как бы заранее, загодя облегчая их страдания. Страдает — ну и пусть! Я целую жену Регулеса, ставлю перед сыном Ривасов чашку чая и стараюсь сохранить спокойствие. Я говорю себе: «Сейчас я иду по замерзшему мосту, и снег забивается мне в дырявые башмаки». Нет, конечно, я ничего не чувствую. Я просто знаю, что это так, что именно сейчас (а может, и не сейчас), когда сын Ривасов берет в руки чашку, и лицо его принимает совершенно идиотское выражение, я иду по какому-то мосту. И я не теряю присутствия духа, потому что до болванов-гостей мне нет дела, и я воспринимаю все гораздо спокойней. Нора вчера остолбенела. «Что с тобой?» — спросила она меня. Но я, здешняя, была тут ни при чем. Беда случилась с ней, со мной, живущей на другом краю земли: то ли ее избили, то ли она заболела, причем как раз в тот момент, когда Нора собиралась петь Форе[4], а я сидела за роялем, не отрывая счастливых глаз от Луиса Марии, который стоял, облокотившись о крышку рояля (его лицо казалось портретом в черной раме) и, довольный, смотрел на меня преданным собачьим взглядом; смотрел, предвкушая звучание арпеджио, и мы были вместе и так любили друг друга. Ужасно получать от нее известия, танцуя, целуясь или просто сидя рядом с Луисом Марией. Потому что меня на том краю света никто не любит. Никто не любит эту часть моего «я», и, естественно, мое сердце разрывается от того, что меня бьют или снег забивается мне в башмаки, когда Луис Мария танцует со мной, и его рука, обнимающая меня за талию, ползет вверх, словно столбик на термометре в полуденную жару, и мне бывает так сладко и страшно, а ее бьют, и я не могу больше терпеть и говорю Луису Марии, что мне нездоровится, мне душно, меня душит снег, невидимый снег, который забивается мне в башмаки. Нора, конечно, закатила мне сцену. «Я больше никогда не попрошу тебя подыграть мне! Ты нас выставила на посмешище!» При чем тут посмешище, я играла, как могла, играла, толком не слыша Нору, но пальцы мои бегали по клавишам и, по-моему, вполне успешно, они честно аккомпанировали Норе. Луис Мария тоже смотрел на мои руки; бедняга, наверное, не отваживался заглянуть мне в лицо. Я, видно, бываю сама не своя в такие минуты. Очень тебе сочувствую, Норита, найди себе другого аккомпаниатора, для меня это становится все более тяжким наказанием, ведь теперь я переношусь туда только в минуты счастья, когда я чувствую, что оно вот-вот наступит или уже наступило; когда Нора поет Форе, я переношусь туда, и меня захлестывает ненависть».
«Вечером. А порою нахлынет нежность, внезапный, долгожданный прилив нежности к той, не-королеве, которая живет на другом конце земли. Мне хочется отправить ей телеграмму, посылку, убедиться, что ее дети здоровы или что у нее нет детей, — а по-моему, у меня там нет детей, — и ей нужно, чтобы ее утешали, любили, угощали леденцами. Вчера я заснула, сочиняя ей послания, выбирая место встречи. Буду четверг тчк место встречи мост. Какой мост? Мост — это навязчивая идея, так же, как Будапешт и нищенка в Будапеште, в царстве мостов и въедливого снега. Я замерла на кровати и чуть не закричала, меня так и подмывало кинуться к маме, разбудить ее, укусить посильнее, чтобы она проснулась. А все от мысли о том, что… Как трудно с непривычки произнести это вслух! И все-таки… Я подумала, что я ведь сейчас могу, если мне взбредет в голову, поехать в Будапешт. А могу и в Хуху, и в Кецальтенанго. (Я про них когда-то писала в дневнике). Но Хуху и Кецальтенанго для меня пустой звук, с тем же успехом можно было бы сказать «Трес Арройос», «Кобе», «улица Флорида». Реален только Будапешт, потому что там холодно, там меня бьют и истязают. Там (он мне приснился, конечно, только приснился, но видение никак не рассеивается и становится все реальнее) есть человек по имени Род… Или Эрод?.. Или Родо?.. И он меня бьет, а я его люблю, вернее, не знаю, может, и не люблю, но раз я безропотно изо дня в день сношу его побои, значит, я люблю его».
«Позже. Чепуха. Род мне приснился, или, может, во сне просто мелькнул чей-то забытый образ. Никакого Рода не существует; я мучаюсь, но кто мой мучитель — неизвестно: мужчина, мегера-мать или одиночество. Я должна найти себя. Надо сказать Луису Марии: «Давайте поженимся и поедем в Будапешт на заснеженный мост, где кто-то стоит». И тут же мелькает мысль: а вдруг я… (Ведь я всегда оставляю себе потайную лазейку и не хочу полностью поверить своим словам.) Вдруг я… Ну да, вдруг я сошла с ума, просто сошла с ума?. Хорошенький будет у нас медовый месяц!»
«28 января. Мне пришла в голову забавная мысль. Вот уже три дня я не имею известий от той, далекой. Может, ее перестали бить или ей удалось укрыться от холода? Послать бы ей телеграмму, чулки… Мне пришла в голову забавная мысль. Я представила, что приезжаю в ее город вечером, зеленоватым, водянистым вечером, какой бывает только в нашем воображении. В районе Добрина Стана, на фоне улицы Скорда, виднеются вставшие на дыбы каменные лошади и неподвижные постовые, чадят костры, и от порывов ветра по оконным стеклам проносится рябь, как по морю. Пройтись с видом туристки по Добрина Стана, положив карту города в карман голубого костюма (мерзнуть, но все равно оставить пальто в отеле «Бурглас»), дойти до площади, почти нависающей над грохочущей рекой, по которой плывут расколотые льдины и баркасы; а на них кое-где примостились зимородки. За площадью, очевидно, должен быть мост, сказала себе я и осеклась. Дело было вечером, мы собирались в «Одеон» на концерт Эльзы Пиаджио де Тарелли; одевалась неохотно, подозревая, что после концерта меня ждет бессонная ночь. Ох, уж эти мне раздумья глухой поздней ночью!.. А вдруг я потеряюсь в чужом городе? Мысленно путешествуя, человек обычно выдумывает всякие названия, а потом забывает: Добрина Стана, зимородки, Бурглас. Но названия площади я не знаю, и это странно, словно я действительно очутилась на площади в Будапеште и стою в растерянности, потому что понятия не имею, куда я попала, ведь там названия вполне реальны, а не порождены моей фантазией. Иду-иду, мама! Не бойся, мы не опоздаем и сполна насладимся музыкой твоего любимого Баха и Брамса. Это ведь легкая, проторенная дорожка. Без всяких там площадей и «Бургласов». Мы — здесь, Эльза Пиаджио — там. Как не хочется отвлекаться, ведь я как раз стояла на площади (впрочем, это уже неправда, я лишь думаю о ней, а это все ерунда). А за площадью начинается мост».
«Вечером. Начинается и тянется через реку. В конце программы, когда Эльзу Пиаджио стали вызывать на «бис», я узнала название площади. Она Владас, а мост — Рыночный. Я шла по площади Владас к берегу, шла, не торопясь, заглядываясь порою на дома и витрины, на тепло укутанных ребятишек, на замерзшие фонтаны и покрытые белыми пелеринами памятники национальным героям Тадео Аланко и Владиславу Нерою, любителям токайского вина и знаменитым цимбалистам. Бедняжка Эльза Пиаджио после каждой пьесы Шопена кланялась зрителям и не знала, что из партера, где сижу я, можно запросто попасть на мост, у подножия которого возвышаются массивные колонны. Но-но, поосторожней, обрывала я себя, ты еще вспомни анаграмму «Алина Рейес — королева, а…» или вообрази, что мама сейчас не с тобой, а в гостях у Суаресов. Приятно чувствовать, что ты в здравом уме: я фантазирую, потому что мне так хочется, и мои фантазии вполне реальны. Вернее, реальны мысли о поездке, а то, что ей, далекой, холодно или ее истязают — вздор. Я фантазирую, потому что мне нравится, ведь интересно, что будет дальше: повезет ли Луис Мария меня в Будапешт, если мы поженимся и я попрошу его поехать со мной. Да, в такой обстановке гораздо легче искать этот мост, искать и находить себя, ведь я прошла уже полмоста, пока публика аплодирует и кричит «Альбениса! Полонез!», не понимая, что эти вопли бессмысленны, когда настырный снег на пару с ветром толкают тебя в спину, заворачивают, словно в махровое полотенце, и влекут к середине моста. (Я пишу в настоящем времени, потому что так проще. А вообще-то дело было в восемь часов вечера, когда Эльза Пиаджио в третий раз играла на «бис»; кажется, теперь она исполняла пьесу Хулиана Агирре или Карлоса Густавино, что-то мелодичное и пасторальное.) Но мне на время уже плевать, я с ним обращаюсь как хочу. Помню, однажды я подумала: «Меня, далекую, бьют, снег забивается в мои башмаки, а я, здешняя, тут же узнаю об этом. Но почему тут же? Может, новости доходят до меня с большим опозданием, а может, ничего подобного никогда не происходило. Вполне возможно, меня начнут бить через четырнадцать лет, а может, от меня остался лишь крест и две даты на кладбище св. Урсулы». И мне эта мысль показалась отличной и вполне здравой. Какая же я была идиотка! Не хватало еще, чтоб и время раздвоилось! Нет, если она ступит на мост, я об этом узнаю сразу же. Помню, я остановилась поглядеть на реку; льдины были похожи на сгустки майонеза, а волны бились о быки моста злобно, гулко и хлестко. (В моем воображении, конечно.) Хотелось выглянуть за парапет и услышать хруст ломающихся льдин. Хотелось задержаться там, на мосту, — меня притягивал вид реки и сковывал страх, а может, и не страх, а просто я замерзла: ведь бушевала метель, а я оставила пальто в гостинице. Я не хвастунья и задирать нос не люблю, но, честное слово, такого еще ни с кем не случалось: шутка ли — сидеть в «Одеоне» и одновременно путешествовать по Венгрии! Тут кого угодно мороз по коже продерет, где бы он ни был, в Аргентине или во Франции. Однако мама дернула меня за рукав — партер почти опустел. Пожалуй, пора поставить точку, не стоит припоминать дальше свои мысли. Ничего хорошего из этого не выйдет. И все-таки, все-таки… Мне пришла в голову любопытная мысль».
«30 января. Бедный Луис Мария, надо же быть таким дураком, чтобы на мне жениться! Он не знает, какой это тяжкий груз».
«31 января. Мы поедем. Он так быстро согласился, что я чуть не вскрикнула. Мне стало страшно, показалось, что он слишком легко включается в игру. И ведь он ничего не знает, он пешка, которая, сама того не подозревая, может решить исход партии. Пешка Луис Мария и его королева. Алина Рейес — королева, а…».
«7 февраля. Надо лечиться. Я не напишу, о чем подумала на концерте. Вчера вечером я почувствовала, что ей опять плохо. Я знаю, что там меня снова бьют. Я не хочу делать вид, будто ничего не происходит, но довольно переливать из пустого в порожнее. Если бы я радовалась или утешалась, описывая ее страдания… Но все обстоит гораздо хуже; мне хотелось докопаться до истины, перечитывая дневник, хотелось найти тайный смысл в каждом слове, запечатленном на бумаге после бессонных ночей. Я именно для этого и придумала площадь, осколки льдин на реке, грохот волн, а потом… Но об этом писать не стану уже никогда. Поехать туда и убедиться, что просто затяжное девичество было мне во вред, все дело лишь в том, что мне уже двадцать семь лет, а у меня до сих пор нет мужчины. Но теперь он у меня будет, мой милый песик, дурачок, я перестану думать и начну жить наконец-то, и все будет хорошо. И все-таки, поскольку я расстаюсь с дневником, — ведь дневник и замужество несовместимы, — я должна сказать кое-что напоследок, и пусть в моих словах прозвучит радость ожидания и ожидание радости. Мы поедем туда, но все будет совсем не так, как представлялось мне на концерте. (Напишу и расстанусь с дневником, так будет лучше.) Я встречу ее на мосту, и мы посмотрим друг другу в глаза. Тогда вечером, на концерте, у меня в ушах раздавался грохот льдин, раскалывавшихся там, внизу. И королева победит своего зловещего двойника, подлую и коварную самозванку. Она (если она — это действительно я) покорится мне, ее затмит мое сияние, сияние красоты и правды, и для этого нужно будет лишь подойти к ней и положить ей руку на плечо».
* * *
Алина Рейес де Араос с мужем прибыли в Будапешт 6 апреля и остановились в гостинице «Риц». Это произошло за два месяца до их развода. На второй день Алина пошла прогуляться по городу и посмотреть на ледоход. Ей нравилось гулять одной, — Алина была очень живой и любознательной, — и она бродила по всему городу, смутно чего-то ища, но не особенно стремясь к цели, шла, повинуясь мимолетным прихотям, переходя от одной витрины к другой, забредая в самые разные места. Она поднялась на мост и дошла до его середины; теперь она передвигалась с трудом, потому что мост был засыпан снегом, а с Дуная дул резкий ветер и настырно хлестал прямо в лицо. Юбка ее прилипала к ногам (Алина была не очень тепло одета), и внезапно ее охватило желание повернуть назад, возвратиться в знакомый город. На середине пустынного моста ее ждала оборванная женщина с черными прямыми волосами и изможденным лицом; глаза ее пристально и жадно смотрели на Алину, а полусомкнутые руки уже тянулись ей навстречу. Алина подошла, в точности повторяя (теперь она это знала наверняка) сцену, отрепетированную давно и во всех подробностях, словно это была премьера спектакля после генеральной репетиции. Ничего не боясь, наконец-то обретя свободу, — при мысли об этом ее пронзили восторг и холод, — Алина приблизилась к ней и тоже протянула руки, протянула, не желая ни о чем думать, и женщина упала ей на грудь, и они обнялись, крепко и молча, под грохот волн, бившихся о быки моста. Они так тесно прижимались друг к другу, что «молния» на Алинином костюме впилась ей в грудь, но боль была сладостной, легко переносимой. Руки ее обнимали худенькое тело женщины, она была вся, целиком, в Алининой власти, и душа Алины пела и ликовала, это был ликующий гимн, взлет стаи голубей, пение реки. Алина закрыла глаза, полностью сливаясь с той, другой, воедино, отгораживаясь от внешнего мира, от сумеречного света; внезапно она ощутила огромную усталость, но была уверена в победе, а победа была настолько безусловной и выстраданной, что Алина даже не торжествовала. Ей показалось, что кто-то из них тихо плачет. Очевидно, она, потому что щеки ее намокли, а скула болела, как от удара. Шея и плечи, сгорбленные под грузом бесконечных невзгод, тоже ныли. Открыв глаза (и, наверное, уже вскрикнув), она увидела, что объятия разомкнулись. Тут уж она закричала по-настоящему. Закричала от холода, от того, что снег забивался ей в рваные башмаки, а по мосту шла в сторону площади Алина Рейес, ослепительно прекрасная Алина в сером костюме; волосы ее слегка развевались по ветру, и она, не оглядываясь, уходила прочь.Перевела с испанского Татьяна ШИШОВА
Последние комментарии
19 часов 4 минут назад
19 часов 22 минут назад
19 часов 31 минут назад
19 часов 33 минут назад
19 часов 35 минут назад
19 часов 53 минут назад